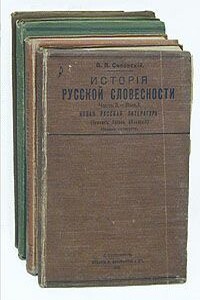Литература 2.0 - [12]
Вторая новелла книги, «Пани ГГ**», о детстве, юности и, так сказать, «профессиональном становлении» первого осужденного серийного убийцы Советского Союза (действие происходит в «застойные» годы и заканчивается во время перестройки), белорусского слесаря Геннадия М., убившего и изнасиловавшего 43 женщины, должна, казалось бы, показать, что совершает насилие именно человек (кто), а не предмет (что).
Истоки страсти Геннадия М. можно было бы легко вывести по Фрейду (или тому же Янову, который начинал как классический психоаналитик) из детства героя — трагическая смерть отца, попытка матери избавиться от нежеланного ребенка, встреча с извращенцем, насилие со стороны матери, болезненный отказ понравившейся девочки — как видим, перед нами полный спектр детских травм. Травмы эти вполне могли дать о себе знать, даже несмотря на полное жизненное благополучие — женитьба в итоге на любимой женщине, бытовой достаток (обустроенный дом, вдосталь «левых» заработков) и социальная реализованность (односельчане, когда за маньяком приехала милиция[60], хотели «хвататься за колы», чтобы отбивать насквозь «положительного» слесаря).
Геннадию была свойственна танатофилия. Еще подростком он срисовал из учебника анатомии и держал у себя в комнате рисунок человека без кожи. Во время рыбалки он не только ест полусырую рыбу (оправдывая себя, заметим, тем, что так же делают японцы), но и, выпив после мастурбации собственную сперму, наслаждается «тревожно живым вкусом» и тем, что «сам себя сожрал». Он получает удовольствие, забирая, буквально впитывая («пищеварительный» эпитет не случаен — он связан с важным для новой книги Юрьенена мотивом каннибализма[61]) в себя чужую жизнь. Это впитывание может быть и убийством («в момент удушения я испытывал самое большое удовлетворение»), или питьем березового сока («он забирался в купы тонких березок, жаль, что не ходячих, раскачивался с ними, целовал, кусал их, хотел насосаться соком и не мог — такая охота вдруг открылась жить. Даже благодарен был той, которую убил…»). В результате этих убийств герой будто возносится над другими людьми: «…теперь [я] сильнее всех. Сверхчеловек. Вознесся надо всеми».
Но, как ни странно, герой после всех своих преступлений оказывается даже более похож на «всех», чем до. Происходит это потому, что убийство и насилие в целом — отнюдь не его прерогатива. Размышляя о старой польской дворянке, по какому-то счастливому недосмотру советских властей оставленной жить в одиночку в старинной усадьбе, которую можно было бы использовать под что-нибудь более общественно полезное, герой, впоследствии ее и убивший, недоумевает: «…почему Государство не подошлет (убийцу. — А.Ч.)?» Именно это государство, недаром, видимо, написанное персонажем Юрьенена с большой буквы, становится субъектом насилия: «…если прикинуть, сколько нас в стране… Одних ветеранов! Сколько их было, войн? А органы? Незримый фронт, который воюет постоянно? Дальше — которых смерть есть ремесло. Исполнители, кто в штате: палачи, профессиональные убийцы, которые тайно убирают неугодных руководству в стране и за ее пределами. Сюда же разведчики, обученные убивать. Шпионы… Нет, не один. Нас миллионы <…> И все: убийцы. Закон диамата».
Население государства, которое, в свою очередь, снабжает пассивные объекты — людей — функциями насилия, становится, по Ж. Рансьеру, «сообществом существ, наделенных речью, основывающим свою действенность на некоем предварительном насилии. Сущность этого насилия <…> в том, что оно делает видимым невидимое, наделяет именем безымянное, дает услышать речь там, где воспринимается только шум»[62]. И словно именно к этому «невидимому» и «безымянному» пытается прорваться герой, когда копает могилу для очередной своей жертвы: «Под лопатой звякали не то осколки, не то гильзы, хрустели кости Великой Отечественной, и он копал сквозь все это, забираясь под слой войны, проломавшей туда и обратно через этот лес — за три года до его рождения в год Огненного Кабана».
Любопытно, кстати, что случай с белорусским слесарем западные ученые из новеллы Юрьенена спешат использовать в своих исследованиях, пытаясь доказать, что дегуманизация свойственна в наши дни не только США, лидирующим по количеству «серийных убийц», но и странам Варшавского блока. Из следующей новеллы становится очевидным, что национальность маньяка отнюдь не принципиальна.
Одноименная сборнику повесть «Входит Калибан» двусоставна, но монотематична: рассказ о японском аспиранте, убившем и съевшем в Париже голландку, закольцовывается рассказом о нашем соотечественнике, съевшем в Ленинграде 1970–1980-х годов финскую туристку. И если в ленинградской истории, из которой можно, кажется, вычленить только две мифологемы (библейскую: герой отсекает голову незадачливой интуристе и ставит ее на блюдо — «вывернутая» история Иоанна Предтечи и Саломеи, и фрейдистскую — герой готовит и поедает свою жертву потому, что жена не дает ему проделывать с ней возбуждающие его «кусалки»), все достаточно просто, то с парижской дела обстоят куда сложнее.
Иссэя Сагаву с самого отрочества не привлекали его соотечественницы, зато влекли европейки — он был одержим красотой полотен Ренуара и мечтал отведать плоть изображенных на них женщин. Убийство красоты как ее абсолютное воплощение (и поглощение!) — топос, отнюдь не новый для enfant terrible прошлого столетия: можно вспомнить Мисиму или Жене с его пассажем об убийстве немецким солдатом прекрасного мальчика: «…какая отвага! он, убивая нежную душу подростка, осмелился разрушить всем очевидную красоту и возвести красоту совсем иную — ту, что родилась из союза той, уничтоженной, красоты и варварского жеста»

Книга из двух частей. Первая – жесткие рассказы о Японии: секс, рок, экспаты и та правда о японцах и себе, с которой сталкиваются живущие в стране иностранцы. Вторая – рефлексивные приключения уже ближе к нам, на подмосковной даче, в советском детстве, в нынешней непонятности… Неожиданный коктейль от Александра Чанцева – профессионального япониста, эссеиста-культуролога и автора четырех книг non-fiction. Желтый Ангус пьет, не чокаясь.

Книга почти мультимедийная, ведь в ней сокрыто множество опций. В разделе «интервью» можно поучаствовать в авторских беседах с писателями, учеными, журналистами и даже рок-звездами. Эссе о музыке (от новой классической музыки до U2) заставят, возможно, включить проигрыватель и прибавить звук, а статьи о кино – Вендерса и Пазолини, Аристакисяна и Одзу – вспомнить вечное сияние классики и разделить радость от фильмов недавних. Наконец, эту книгу можно просто читать – в соответствующей части найдутся статьи о самых разных книгах и писателях, от Рушди и Лимонова до Булгакова и Оэ.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.