Левитан - [39]
[33] Или — эйя-эйя-алала! (Как кричали фашисты.) Но я сдержался и сказал:
— Добрый день, господин надзиратель!
— А шапка? — спросил он. И отправил меня на рапорт к начальнику тюрьмы.
Я не жалею, что познакомился с этим медведеподобным человеком, о котором шла слава, что он воевал в Испании.
— Вы не поприветствовали надзирателя, Левитан? — спросил он хриплым голосом.
— Я поприветствовал его.
— Снятием шапки?
— Нет.
— Почему нет?
— Этого нет в уставе по «отбытию наказания».
— Но это внутренний устав КИ-дома, распорядок. Или вы принципиально не хотите приветствовать надзирателей снятием шапки?
— Принципиально, господин начальник.
— Почему?
— Я читал в книгах, что лагерники во время войны должны были «Mützen ab!» («шапки долой») приветствовать эсэсовцев. И в Средневековье крепостной — графа снятием шапки.
Он смотрел на меня проницательным взглядом серых глаз.
— Видите, Левитан, — сказал он, — вы слишком много читали этих книг, поэтому и попали сюда! — Потом посмотрел на тот листочек с донесением. Нетерпеливо махнул рукой. — На этот раз я запрещаю вам почту лишь на месяц. Приветствуйте надзирателей! Идите!
Один месяц почты означает изъятие письма, пришедшего из дома, да одна почтовая карточка с обязательными десятью строчками домой не придет.
Уже на следующий день Пшеница снова сел мне на голову. В то время, когда я был один в камере. Он хорошо знал, какая койка моя. Однако показал на ту, что была хуже всех заправлена, и спросил:
— А здесь кто спит?
— Я.
— Почему не заправляете постель так, как положено?
— Что-то не в порядке?
— Вы слышали про ивицу[34], Левитан?
— Это какая-нибудь девушка?
— Ивица — это край. Тюфяк должен быть застелен ровно по кромке. Посмотрите у других! Через пять минут я вернусь, и если найду тюфяк с такими краями, вы узнаете меня с другой стороны!
Вы увидите — он действительно показал себя с другой стороны, только не так, как он думал. Вернувшись, он сделал вид, что разочарован и по-настоящему озабочен мною.
— Это теперь ивица? Левитан, вы что, не служили ни в одной армии и не научились делать ивицу на тюфяке?
Я ответил ему очень вежливо:
— Ох, в армии я служил, и довольно долго, — но там мы спали или под елкой, или в снегу — ни разу не добирались до тюфяков. Наверно, поэтому я такой неловкий.
Он лично постарался продемонстрировать мне на краешке тюфяка, какой должна быть кромка. Еще раз осмотрел камеру. Шапочка была на столе. И не найдя к чему еще придраться, он предался поучениям:
— Нужно лучше убираться, ведь это полезно для вас… — и продолжал очень громко: — Некоторые думают, что это шутка! Там, где я, будет порядок и чистота! Иначе — на рапорт! На рапорт! — И ушел, оставив за собой в камере неописуемо отвратный запах своих помад, смешавшийся с запахом параши. Тяжело понять, был ли Пшеница страхом и трепетом корпуса или нет?
5
Перед моими глазами встают все те одиночки, общие камеры, изоляторы и карцеры различных тюрем, как я жил в них в те годы. Коридоры, залы для культурных мероприятий, дворы, кабинеты, туалеты, душевые, склады. Я решил, что перескочу через все, что повторяется, а кое-где изменю порядок следования, чтобы не затягивать повествование.
Чуть больше года я пробыл в камере «первого одиночного», потом — снова транспорт. В тюрьму у зеленой реки. Сюда посылали только «тяжелых», от пятнадцати лет и выше. Строение поменьше было переполнено, в каждой камере нас было как листвы с травой. В транспорте было очень нервно.
Ночью нами набили вагоны для перевозки скота и заперли. В воздухе не было ничего хорошего. Говорят, нас перевозили из-за вероятности военного вторжения со стороны венгерской границы. Поэтому нас крепко сковали наручниками и цепями, и охраны было — «как гуннов».
У самого пожилого железнодорожника на вокзале по щеке покатилась слеза — он вздохнул: «Бедные парни!» Распространился слух, что нас везут на заклание.
Я был окружен стукачами, любая мысль о побеге означала бы глупость. В новой тюрьме мы каждый день узнавали о какой-нибудь неприятности. Если дело дойдет до войны, а она на подходе, нас отвезут в Рог, в те знаменитые первобытные леса, и перебьют. Тяжелая атмосфера прижимала нас к земле, редкая шутка могла пробиться сквозь нее.
Однако мы с благодарностью смотрели на тех двух девушек, которые боролись на траве по ту сторону реки, валялись по земле и переплетались ногами в воздухе, так что можно было заглянуть между ног.
Чем больше людей, тем больше новостей. Один рассказал, что в женском КИД заключенным режут колбасы и колбаски, которые те получают из дома, на куски, поскольку, как оказалась, они ими самоудовлетворяются.
Старый уголовник, получивший двадцать лет каторги и еще в немецких лагерях отмеченный тем треугольником — знаком уголовных преступников, — устроил в углу камеры свой штаб. Он был ортодоксальным гомосексуалом, ничего другого — за все эти годы тюрьмы — ему в жизни и не оставалось. Рыжеволосый, неопределенного возраста, достаточно сильно заросший, властный человек. С татуировками по всему телу. Но татуировать он себя позволил только после войны, иначе бы не сносить ему головы в лагерях. Дело в том, что немцы красиво татуированных людей «умерщвляли» в первую очередь и снимали с них кожу; говорят, эта кожа очень хороша для изготовления абажуров для ламп. Все его татуировки, конечно, имели свой смысл. На попе у него была нарисована кошка, а прямо рядом с дыркой — мышь. Если он сжимал задницу, мышь пряталась в дырку. На крайней плоти у него была татуирована голая женщина; когда он был мягким, она казалась какой-то худой и сморщенной, а когда он у него напрягался, становилась пышной, с красивыми формами и гладкая. Этим изобретением он добился того, что мог, будто бы в шутку, демонстрировать молодым ребятам, которых собирал вокруг, все области своей сексуальности. Если ему удавалось что-нибудь поймать — хорошо, если нет — то он без устали трудился дальше. Его очень обрадовал парень, простодушно рассказавший, что еще на воле однажды оприходовал мужчину. Он был из Штирии, осужден на смерть и двадцать лет за укрывание «крестоносцев». Сестра, в то время ей было лет десять-одиннадцать, ему рассказала, что учитель Закона Божьего приглашает девочек к себе и дает им попробовать сладкого яичного ликера. В напиток он что-то подмешивал, так что они засыпали. Когда его сестра проснулась, то почувствовала, что одета немного иначе, а между ног болит. Брат, известный штирийский драчун, пошел к этому святоше, закрылся с ним в комнате, достал нож и допросил его по всем правилам. Заставил того признаться — тот только трясся, чтоб он никому не рассказал. Что он отправится в Рим к Папе исповедаться! Ну, парень ему велел раздеться, избил его и оприходовал сзади.

Книга Тимура Бикбулатова «Opus marginum» содержит тексты, дефинируемые как «метафорический нарратив». «Все, что натекстовано в этой сумбурной брошюрке, писалось кусками, рывками, без помарок и обдумывания. На пресс-конференциях в правительстве и научных библиотеках, в алкогольных притонах и наркоклиниках, на художественных вернисажах и в ночных вагонах электричек. Это не сборник и не альбом, это стенограмма стенаний без шумоподавления и корректуры. Чтобы было, чтобы не забыть, не потерять…».

В жизни шестнадцатилетнего Лео Борлока не было ничего интересного, пока он не встретил в школьной столовой новенькую. Девчонка оказалась со странностями. Она называет себя Старгерл, носит причудливые наряды, играет на гавайской гитаре, смеется, когда никто не шутит, танцует без музыки и повсюду таскает в сумке ручную крысу. Лео оказался в безвыходной ситуации – эта необычная девчонка перевернет с ног на голову его ничем не примечательную жизнь и создаст кучу проблем. Конечно же, он не собирался с ней дружить.

Жизнь – это чудесное ожерелье, а каждая встреча – жемчужина на ней. Мы встречаемся и влюбляемся, мы расстаемся и воссоединяемся, мы разделяем друг с другом радости и горести, наши сердца разбиваются… Красная записная книжка – верная спутница 96-летней Дорис с 1928 года, с тех пор, как отец подарил ей ее на десятилетие. Эта книжка – ее сокровищница, она хранит память обо всех удивительных встречах в ее жизни. Здесь – ее единственное богатство, ее воспоминания. Но нет ли в ней чего-то такого, что может обогатить и других?..

У Иззи О`Нилл нет родителей, дорогой одежды, денег на колледж… Зато есть любимая бабушка, двое лучших друзей и непревзойденное чувство юмора. Что еще нужно для счастья? Стать сценаристом! Отправляя свою работу на конкурс молодых писателей, Иззи даже не догадывается, что в скором времени одноклассники превратят ее жизнь в плохое шоу из-за откровенных фотографий, которые сначала разлетятся по школе, а потом и по всей стране. Иззи не сдается: юмор выручает и здесь. Но с каждым днем ситуация усугубляется.

В пустыне ветер своим дыханием создает барханы и дюны из песка, которые за год продвигаются на несколько метров. Остановить их может только дождь. Там, где его влага орошает поверхность, начинает пробиваться на свет растительность, замедляя губительное продвижение песка. Человека по жизни ведет судьба, вера и Любовь, толкая его, то сильно, то бережно, в спину, в плечи, в лицо… Остановить этот извилистый путь под силу только времени… Все события в истории повторяются, и у каждой цивилизации есть свой круг жизни, у которого есть свое начало и свой конец.

С тех пор, как автор стихов вышел на демонстрацию против вторжения советских войск в Чехословакию, противопоставив свою совесть титанической громаде тоталитарной системы, утверждая ценности, большие, чем собственная жизнь, ее поэзия приобрела особый статус. Каждая строка поэта обеспечена «золотым запасом» неповторимой судьбы. В своей новой книге, объединившей лучшее из написанного в период с 1956 по 2010-й гг., Наталья Горбаневская, лауреат «Русской Премии» по итогам 2010 года, демонстрирует блестящие образцы русской духовной лирики, ориентированной на два течения времени – земное, повседневное, и большое – небесное, движущееся по вечным законам правды и любви и переходящее в Вечность.

Книга представляет сто лет из истории словенской «малой» прозы от 1910 до 2009 года; одновременно — более полувека развития отечественной словенистической школы перевода. 18 словенских писателей и 16 российских переводчиков — зримо и талантливо явленная в текстах общность мировоззрений и художественных пристрастий.

Словения. Вторая мировая война. До и после. Увидено и воссоздано сквозь призму судьбы Вероники Зарник, живущей поперек общепризнанных правил и канонов. Пять глав романа — это пять «версий» ее судьбы, принадлежащих разным людям. Мозаика? Хаос? Или — жесткий, вызывающе несентиментальный взгляд автора на историю, не имеющую срока давности? Жизнь и смерть героини романа становится частью жизни каждого из пятерых рассказчиков до конца их дней. Нечто похожее происходит и с читателями.
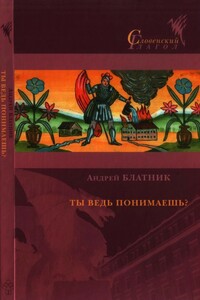
«Ты ведь понимаешь?» — пятьдесят психологических зарисовок, в которых зафиксированы отдельные моменты жизни, зачастую судьбоносные для человека. Андрею Блатнику, мастеру прозаической миниатюры, для создания выразительного образа достаточно малейшего факта, движения, состояния. Цикл уже увидел свет на английском, хорватском и македонском языках. Настоящее издание отличают иллюстрации, будто вторгающиеся в повествование из неких других историй и еще больше подчеркивающие свойственный писателю уход от пространственно-временных условностей.
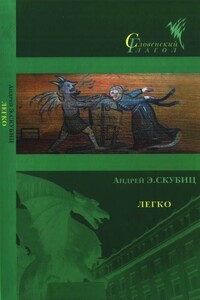
«Легко» — роман-диптих, раскрывающий истории двух абсолютно непохожих молодых особ, которых объединяет лишь имя (взятое из словенской литературной классики) и неумение, или нежелание, приспосабливаться, они не похожи на окружающих, а потому не могут быть приняты обществом; в обеих частях романа сложные обстоятельства приводят к кровавым последствиям. Триллер обыденности, вскрывающий опасности, подстерегающие любого, даже самого благополучного члена современного европейского общества, сопровождается болтовней в чате.