Левитан - [110]
— Ну, вы подумали, Левитан?
— Не понимаю, о чем бы мне думать?
— Хорошо, тогда начнем иначе.
— Я готов ко всему плохому — удивить меня в этих стенах могло бы только что-то приятное, никакие трудности не могут больше застать меня врасплох.
Он спросил меня, правда ли я думаю оставить кости в этих стенах?
— Правда.
— Нет-нет, вы так не думаете. Вы изучаете математику там в камере?
— Да.
— Ну, и почему? Потому что вы уверены, что выйдете на свободу — и математика пригодится в поисках работы.
— Нет. Я смирился со своей судьбой. Совершенно больше не думаю об освобождении. Впрочем, вам тяжело будет выпустить меня, учитывая всё, что я видел. Ведь вы знаете, что я не стал бы молчать.
Так мне повредила и математика. К тому же во время разговора я ощутил тот таинственный флюид, который появлялся во мне всегда, когда я в своей жизни оказывался в безнадежном положении. С возрастанием инстинкта социальности этот флюид во мне явно усилился. Моя жертва показалась мне очень важной, я ощутил истинную миссию. Многие и многие пронесенные на свободу книги ясно заговорят вместо меня — когда я сдохну в застенках.
Любая надежда — это лишь репетиция последнего представления, когда человек засыпает навечно. Раньше ли, позже ли случится этот отрывок мгновения — не важно.
Или лучше сгинуть где-нибудь безымянным, ужравшись, — или повесить свои говорящие кости этим чертям на шею, чтобы они запутались в них, но не смогли бы сбросить с себя. (Необходимое полезное ощущение для арестанта, когда ему что-то угрожает, но в реальном потребительском мире — это всего лишь мыльный пузырь; горе, если бы я знал об этом тогда!)
Между нами завязалась битва: он вываливал аргументы, под тяжестью которых люди обычно склоняются, я — контраргументы, для нормального человека абсолютно надуманные. Он был логичен по-своему, я — по-своему, но у обеих логик не было совершенно ничего общего. Он клевал мне печень, как та хищная птица Прометею, но моя печень снова отрастала: и оба мы не видели выхода.
Самое плохое — или самое хорошее — в этом то, что мы совершенно не испытывали друг к другу антипатии, он в этом деле чувствовал себя как хирург, который меня оперирует, а я — как пациент, привязанный к операционному столу. Однако оба мы знали (он тоже был неглуп), что операция абсолютно бессмысленна.
Он показал мне достаточно толстую пачку листов:
— Посмотрите, сколько у нас признаний Брезника; или вы хотите, чтоб мы начали их вам зачитывать? Чтоб вы знали, Левитан, как хорошо нам известно все дело, я расскажу вам анекдот, который, охраняя вас, вам рассказал Брезник, этот проклятый лицемер. На одной стороне леса собрание у фашистов, с другой — у коммунистов, и те и другие выкрикивают свои лозунги. Одни: «За фашизм стоять до победы!» Другие: «За коммунизм стоять до победы!» А из леса доносится эхо: «…беды… беды…» Вы вспомнили, Левитан!
— Бог знает, что вы вытворяли с этим человеком, что у него крыша поехала? — заметил я.
А следователь указал на дверь:
— Как вспомню, что этот притворщик стоял там, у двери, когда приходил докладывать о вас, ведь он был лично ответствен именно за вас, — и заходил будто какой-то святоша… меня по-настоящему охватывает злоба. Мы сказали ему: «Если Левитан найдет хотя бы такую щелку, сбежит, и мы никогда его больше не увидим!» А он, оказывается, был с вами заодно. Такую вот щелочку мы ему показали… — он показал большим и указательным пальцами узкую продолговатую щель.
Он действительно было очень расстроен порочностью Брезника. Потом он спросил меня, правда ли, что я гипнотизирую.
— Иногда, но в тюрьме не получается.
— Почему нет?
— Человек здесь ослабевает.
— Нет-нет, — усмехнулся он, — только не вы, Левитан.
Мы смотрели друг другу в глаза. Я почувствовал, что он — тоже гипнотик и что хорошо это знает и напряженно борется с самим собой; я быстро отвел взгляд. Было бы чертовски опасно, если бы хоть на мгновение я подчинил его себе, — он бы, очнувшись, осознал, что произошло, и насмерть меня возненавидел. А если и нет, то его могли бы заменить, и я получил бы другого следователя, но я знал на личном опыте и по рассказам, что многие из них гораздо хуже него.
— Вы уходили из-под ареста и возвращались назад, Левитан. Такого еще не случалось до Владивостока. И вы не покинете этих стен, пока не объясните — как?
Следовательно, они знают не всё, промелькнуло во мне. До сих пор он упоминал только Брезника. Этот бедолага, разумеется, рассказал все, что знал, подписал себе приговор и теперь ожидает где-нибудь в подземном карцере своей судьбы. Вот только как они об этом узнали? Он сошел с ума, или же кто-то проговорился?.. Подождать надо, помедлить, потянуть.
— Скажем, если бы было правдой то, в чем вы меня обвиняете — будто я бы ходил на волю и обратно, хотя это абсолютная выдумка, которую невозможно воспринимать, ну, если теоретически взглянуть на это дело, — логично, что заключенный сбегает из тюрьмы, чтобы потом опять вернуться? Таких заключенных просто нет.
— Есть, — спокойно ответил он, — может, правда, очень редко — но есть. Здесь факты, которые нельзя ни изменить, ни опровергнуть (он положил руку на папку), дело только в мотивах. А об этом знаете только вы, Левитан, — и вскоре их узнаем и мы, даже если придется подождать еще несколько лет… Посмотрите на себя — впалые глаза и скулы, зеленое лицо, — Левитан, стены сожрут вас. Любой согнется, даже более сильный, чем вы, — один раньше, другой позже, и вы склонитесь. Ведь сейчас мы еще просто замечательно разговариваем, или нет?

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют. Washington Post Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день. New York Times Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса… Экзотично, эротично, потрясающе! Los Angeles Times Деликатесы Давенпорта — изысканные, элегантные, нежные — редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов. Village Voice.

Если бы у каждого человека был световой датчик, то, глядя на Землю с неба, можно было бы увидеть, что с некоторыми людьми мы почему-то все время пересекаемся… Тесс и Гус живут каждый своей жизнью. Они и не подозревают, что уже столько лет ходят рядом друг с другом. Кажется, еще доля секунды — и долгожданная встреча состоится, но судьба снова рвет планы в клочья… Неужели она просто забавляется, играя жизнями людей, и Тесс и Гус так никогда и не встретятся?

События в книге происходят в 80-х годах прошлого столетия, в эпоху, когда Советский цирк по праву считался лучшим в мире. Когда цирковое искусство было любимо и уважаемо, овеяно романтикой путешествий, окружено магией загадочности. В то время цирковые традиции были незыблемыми, манежи опилочными, а люди цирка считались единой семьёй. Вот в этот таинственный мир неожиданно для себя и попадает главный герой повести «Сердце в опилках» Пашка Жарких. Он пришёл сюда, как ему казалось ненадолго, но остался навсегда…В книге ярко и правдиво описываются характеры участников повествования, быт и условия, в которых они жили и трудились, их взаимоотношения, желания и эмоции.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

Действие книги известного болгарского прозаика Кирилла Апостолова развивается неторопливо, многопланово. Внимание автора сосредоточено на воссоздании жизни Болгарии шестидесятых годов, когда и в нашей стране, и в братских странах, строящих социализм, наметились черты перестройки.Проблемы, исследуемые писателем, актуальны и сейчас: это и способы управления социалистическим хозяйством, и роль председателя в сельском трудовом коллективе, и поиски нового подхода к решению нравственных проблем.Природа в произведениях К. Апостолова — не пейзажный фон, а та материя, из которой произрастают люди, из которой они черпают силу и красоту.

Книга представляет сто лет из истории словенской «малой» прозы от 1910 до 2009 года; одновременно — более полувека развития отечественной словенистической школы перевода. 18 словенских писателей и 16 российских переводчиков — зримо и талантливо явленная в текстах общность мировоззрений и художественных пристрастий.
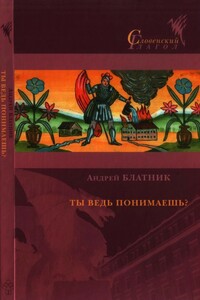
«Ты ведь понимаешь?» — пятьдесят психологических зарисовок, в которых зафиксированы отдельные моменты жизни, зачастую судьбоносные для человека. Андрею Блатнику, мастеру прозаической миниатюры, для создания выразительного образа достаточно малейшего факта, движения, состояния. Цикл уже увидел свет на английском, хорватском и македонском языках. Настоящее издание отличают иллюстрации, будто вторгающиеся в повествование из неких других историй и еще больше подчеркивающие свойственный писателю уход от пространственно-временных условностей.

Словения. Вторая мировая война. До и после. Увидено и воссоздано сквозь призму судьбы Вероники Зарник, живущей поперек общепризнанных правил и канонов. Пять глав романа — это пять «версий» ее судьбы, принадлежащих разным людям. Мозаика? Хаос? Или — жесткий, вызывающе несентиментальный взгляд автора на историю, не имеющую срока давности? Жизнь и смерть героини романа становится частью жизни каждого из пятерых рассказчиков до конца их дней. Нечто похожее происходит и с читателями.
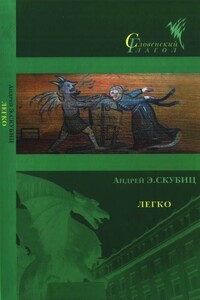
«Легко» — роман-диптих, раскрывающий истории двух абсолютно непохожих молодых особ, которых объединяет лишь имя (взятое из словенской литературной классики) и неумение, или нежелание, приспосабливаться, они не похожи на окружающих, а потому не могут быть приняты обществом; в обеих частях романа сложные обстоятельства приводят к кровавым последствиям. Триллер обыденности, вскрывающий опасности, подстерегающие любого, даже самого благополучного члена современного европейского общества, сопровождается болтовней в чате.
