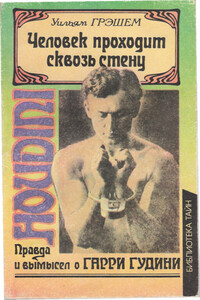Это началось еще в юности. Я не помню, когда это началось.
Когда я стал старше, это овладело мной еще сильнее.
Такая долгая мечта, такое страстное желание не могли не сбыться.
И я взлетел.
Я помнил мечту в дни моей юности, помнил огонь и восторг, и как сияние мечты озарило мой мир и мою сияющую молодость.
Она была моим создателем. Она создала мне жизнь, ибо не хлебом одним живет человек. Так не прожить. Только мечты и видения дают настоящую жизнь.
Но пришли тяжелые дни. Сияние померкло, и проступили земные цвета. Честолюбие, деньги. Любовь, и заботы, и горе. Любопытно, как сильна сила слабости в женщинах и их детях, когда видишь, как твои мечты, невысказанные, глядят их глазами. И старше я стал, и неспокойные дни наступили на земле.
Наконец пришло время, когда питаться стало важнее, чем летать, и деньги стали великой ценностью.
Да, деньги стали великой ценностью, и мне предложили денег, и еще чуть мерцала прежняя, большая мечта.
Самолет был прекрасен. Его серебряные крылья сверкали на солнце. Шум мотора был громкой песней, подымавшей его высоко, высоко.
А потом…
Вниз.
Вниз мы ринулись, прочь от голубой высоты. Прямо вниз.
Быстрее.
Еще быстрее. В пикирующем полете испытывали свою силу.
Страх?
Да, я стал старше. Но страх упрямый. Страх дерзания и мужества. И смешанный с остатками великой силы моей прежней мечты, даже сейчас.
Вниз.
Вниз.
Рев сверкающей стали, внезапный блеск… да, да вот оно… отрываются крылья… Слишком хрупкие… крылья… мечта… тяжелые дни.
Холодный, но трепетный фюзеляж — последнее, что почувствовало мое теплое, живое тело. Протяжный, громкий рев мотора — страшный, нарастающий, переходящий в оглушительный грохот при встрече с землей — был моей смертной песней.
И вот я умер.