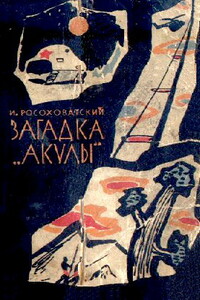Лётчик усмехнулся. Элис, конечно, преувеличивал: получив серьёзные поломки, он бы орал как резаный и уж точно не ходил бы виражами.
Но им действительно пора было вниз.
Теперь и лётчик различал вдалеке вырубки, рассёкшие море лесов, а ещё проспекты и здания — прямые линии и прямые углы, бесспорные следы приложения человеческих рук.
Элис весело мчался к безымянному городу. Лётчик предоставил триплану полную свободу. Сам он тем временем безуспешно пытался найти город на карте и всё больше сомневался, что правильно определил местоположение точки входа. Возможно, они находились гораздо южней, чем он счёл ранее.
Дождь усиливался, превращался в ливень. Элис заявил, что намок и хочет в ангар. Лётчик небрежно ответил, что только от Элиса зависит, как скоро он там окажется — и мощное ускорение вдавило его в спинку кресла. Лётчик расхохотался. В кабине воняло эфиром и рвотными массами, он страшно устал, был неимоверно грязен, но всё равно находился в превосходном расположении духа. Близился конец пути — и этого, малого пути, и пути большого. С Титана лётчик намеревался стартовать к неподвижным звёздам.
Он представил, как техники безымянного аэродрома станут изумляться его безумию, и засмеялся снова.
В конце концов город на карте он всё же нашёл.
Город назывался Ган.
…Лётная полоса местного аэродрома оказалась настолько же хуже раннайской, насколько Северный Раннай уступал великолепному Торнасуку. В сущности, это была уже и не полоса. Даже на сжатое поле возле венерианского хутора садиться было удобней. Покрытие полосы разбивали широкие трещины, она утопала в грязи и терялась в траве. Здания далёких терминалов смотрели слепо и казались совершенно безлюдными.
Лётчик выругался. Напрашивалась мысль, что аэропорт заброшен. Предстояло пешком добираться до Гана, по распутице и под проливным дождём, а прежде того найти сухое место для Элиса и для себя, потому что перед таким марш-броском нужно было отдохнуть хоть немного. Сильней всего удручало отсутствие горячей воды.
И в тот момент, когда лётчик подумал о бане, Элис подвернул колесо шасси. Очередная колдобина оказалась слишком широкой. Триплан развернуло на сто восемьдесят градусов и отнесло в сторону, в глубокую яму. Послышался жуткий треск, похожий на треск костей.
Лётчик похолодел.
Он висел на привязных ремнях. Перед носом, в серой мгле дождя жалко махал элисов винт. Самолёт косо стоял в яме на краю полосы и молчал.
— Элис… — неуверенно окликнул лётчик. Сердце грохотало от ужаса. — Элис!
Корпус триплана заскрипел, разразился диким скрежетом и застонал навзрыд.
— Элис, что с тобой? — Лётчик стал торопливо отвязываться. — Элис, скажи что-нибудь!
Ответом был ещё один мучительный стон — и молчание.
Лётчик выскочил из кокпита, обежал яму по краю, прижал ладони к ещё тёплой алюминиевой обшивке на носу.
— Элис, очнись! Элис!
Самолёт тяжело покачнулся. Двигатель его затих, медленно стал замирать винт. Почти спокойно триплан произнёс:
— Я сломал лонжероны. На левом нижнем.
Лётчик выдохнул и сел прямо в мокрую траву. Дождь хлестал его по непокрытой голове, заливал лицо и ледяными пальцами пробирался под комбинезон. Ужас встряхнул, как хороший кофе, он ещё не прошёл совсем, поэтому холода лётчик не чувствовал.
— Я-то думал, всё совсем плохо, — пробурчал он.
— Всё очень плохо, — несчастным голосом сказал Элис.
— Но не совсем же. Можно починить.
— А кто? Кто чинить будет? — судя по голосу, Элис чуть не плакал. Лётчик испугался, что у него в придачу к лонжеронам потечёт масло. — Здесь же никого нет! Пусто!
— Ничего, — ободряюще сказал лётчик. — Я найду кого-нибудь. Пойду в город. Там должен кто-то найтись.
Но Элис при этих словах содрогнулся. Проволочные расчалки заскрипели и взвыли.
— Парень, — сказал триплан тихо, с выражением глубочайшего ужаса, — если ты меня здесь оставишь, я заржавею и сгнию. Очень быстро.
Лётчик закусил губу.
— Я же обещал, что тебя не оставлю, — сказал он. — Мне только в город сходить надо. Я тебя парашютом накрою.
— Я стою в болоте! — крикнул Элис и снова всхлипнул: — Что мне с того парашюта…
— Вытащим тебя из болота.
— Ты меня не вытащишь. Во мне весу две тонны. А сам я не выеду. Почва мягкая, буксую я.
— Одеяло подложим. Выедешь. Давай-ка не тянуть, а то правда размокнешь.
Лётчик решительно встал и принялся за дело.
Дело шло тяжело. От голодовки, тошноты и усталости он ослабел. Природой лётчику дано было крепкое телосложение, но сейчас руки и ноги его были как ватные. Он злился. Он даже прикрикнул на Элиса, когда тот начал выть, что у него болит сломанное крыло. Не до игр было. Элис слишком любил играть в телесность — у него постоянно что-то болело, чесалось, мёрзло и затекало. Лётчик знал, что он просто напуган.
Колёса шасси медленно вращались, вымешивая мягкую почву. Одеяло тонуло в ней. Мотор надрывно взрёвывал, Элис с натугой подавался вперёд — и снова падал. На пятой попытке упал и лётчик. Его опять начало мутить. Содержание эфира в атмосфере Титана было всё же слишком высоким. В сочетании с высокой влажностью это сводило с ума. Элис ныл-ныл, потом умолк и только честно старался выбраться. Дождь безжалостно молотил его по крыльям и лётчика — по плечам.


![Рентген [сетевая публикация]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)