Лесные качели - [6]
— Значит, он тоже хотел летать? — спросил Егоров.
— Он еще писал в штаны, когда его увезли, — сказал Глазков. — Он меня, наверное, совсем не помнит, но самолеты он обожал с самого рождения. Я в детстве обожал автомобили, а он уже только самолеты.
Помолчали. Егоров смотал удочку, достал нож и стал чистить рыбу. Глазков задумчиво наблюдал за ним.
— Если со мной что случится, — неожиданно сказал он, — найди этого пацана и передай ему от меня привет. Я обещал его матери при жизни их не беспокоить, но после смерти я, наверное, имею на это право. Как ты думаешь?
— Ничего с тобой не случится, — отозвался Егоров, — но сын не должен забывать своего отца.
— Эта стерва утверждала, что он не мой сын, но я ей не поверил. Он похож на меня.
Опять помолчали. Внезапно Глазков вскочил на ноги и стал махать руками, разгоняя комаров, которые скопились вокруг них.
— И все-таки мы живем в фантастический век, век чудес и превращений! — заявил он. — Вот только почему-то они нас не радуют, не удивляют и даже не пугают. Подсели сюда человека прошлого века, он бы, наверное, удивлялся и радовался, как ребенок. А потом бы сразу загремел в психушку от нервного истощения. Мы же не удивляемся и не сходим с ума, потому что все эти чудеса входили в нашу жизнь постепенно. Но для одной человеческой жизни их было все-таки многовато. Мы, промежуточное поколение, по праву гордимся своими достижениями, но воспользоваться ими с полным удовольствием нам уже не придется. Они даже угнетают и раздражают нас, мы устали от их изобилия. Психика человеческая не безразмерна, нельзя ее слишком перегружать даже самыми прекрасными эмоциями.
Пожалуй, это был последний серьезный разговор с Глазковым, то есть его последний серьезный монолог, или исповедь. Потому что самый последний их разговор в проходной в счет брать не приходится, там уже была чистая истерика. Но и этот разговор на рыбалке насторожил Егорова, и он исподтишка разглядывал Глазкова и все думал, что бы такое ему ответить. Надо было сказать что-то веское, толковое и уверенное, но Егоров не знал, что именно, слова не шли, и он мучился. На душе было тревожно. Рыбалка была испорчена…
Может быть, именно эти сомнительные размышления о жизни и скоростях погубили Глазкова? Он, Егоров, всегда инстинктивно избегал подобных размышлений, ему всегда казалось, что стоит ему задуматься, как и почему он летает и живет, он тут же разучится это делать.
В ушах у него все еще звучал голос Глазкова:
— Экзюпери был воздухоплавателем. Ты, Егоров, еще когда-то назывался пилотом. Я уже всегда был только летчиком. Чуешь разницу?
За окном был лес. Его темный и ровный массив, опаленный на горизонте пунцовым закатом, время от времени прошивали прямые, как взлетная полоса, просеки. И тогда огненное море, что бушевало там на горизонте, выходило из берегов и горячей волной устремлялось к поезду и лизало его своим жгучим языком. И каждый раз взгляд Егорова с непонятным волнением рвался вдаль, стремительно разгонялся по горящей просеке и там, на берегу огненного моря, отрывался от земли, уходил в густое прохладное небо, парил над темным лесом и возвращался обратно в купе, чтобы на следующей просеке опять рвануться прочь, разогнаться по огненной дорожке и в момент отрыва от земли прикоснуться к чему-то далекому и запретному. Что-то было там на конце или в начале этой взлетной полосы, что-то вспыхивало там и сгорало, прежде чем он успевал рассмотреть что. Будто там проходила линия высоковольтной передачи. Но какое отношение она имела к нему и почему так сладко и тревожно сжималось сердце?
Он закрывал глаза, но тут же открывал их. Его личная взлетная полоса ждала его. И вот он уже стремительно несется по ней туда, в пылающее море, чтобы там в момент отрыва от земли увидать вдруг качели…
Большие лесные качели стояли на опушке леса, над рекой, над обрывом, в конце длинной-предлинной просеки, в начале всего, в начале его личной взлетной полосы, полосы длиной в жизнь, с которой он никогда не сворачивал. Эта просека во времени, прямая и ровная, начиналась там, на опушке леса, на больших лесных качелях, скрипучих и тяжелых, которые так трудно раскачать, но которые, однако, умели летать, как во сне, и летали иногда выше неба и леса, выше реки и деревни на другом берегу.
Заходящее солнце слепило глаза, и черный девичий силуэт на другом конце доски каждый раз врезался в огненный шар и вспыхивал в нем, и сгорал дотла, а на конце доски оставалась только черная тень, легкая и прозрачная, но она сладко ухала, и звала на помощь, и аукалась робко и призывно, и боялась потеряться, и еще смеялась при этом. Ее звали Настя-Потеря, она теряла все на свете и не раз терялась сама. Ее находили и водворяли на свое место за первой партой, и следили за ней, и приручали, но она снова терялась. Она любила теряться и мечтала потеряться совсем.
Однажды их укачало до полного одурения, и земля выскользнула из-под ног, и лес опрокинулся, и, вцепившись в ствол березы, чтобы не улететь, она с тихим стоном прижалась к ней и сползла на землю. Он захохотал и, распластав руки-крылья, закружил вокруг березы.
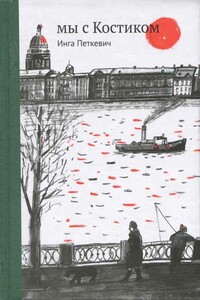
Мне бы очень хотелось, чтобы у тех, кто читает эту книгу, было вдоволь друзей — друзей-отцов, друзей-приятелей, друзей-собак, друзей-деревьев, друзей-птиц, друзей-книг, друзей-самолётов. Потому что, если человек успеет многое полюбить в своей жизни сам, не ожидая, пока его полюбят первого, ему никогда не будет скучно.Инга Петкевич.
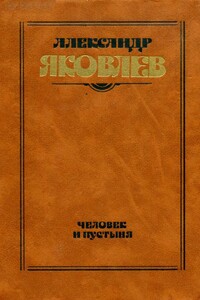
В книгу Александра Яковлева (1886—1953), одного из зачинателей советской литературы, вошли роман «Человек и пустыня», в котором прослеживается судьба трех поколений купцов Андроновых — вплоть до революционных событий 1917 года, и рассказы о Великой Октябрьской социалистической революции и первых годах Советской власти.
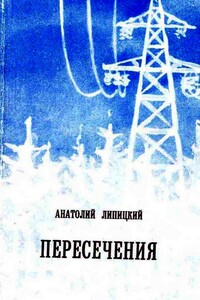
В своей второй книге автор, энергетик по профессии, много лет живущий на Севере, рассказывает о нелегких буднях электрической службы, о героическом труде северян.
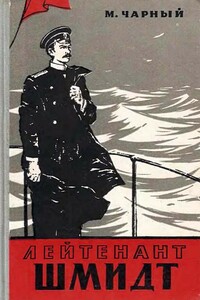
Историческая повесть М. Чарного о герое Севастопольского восстания лейтенанте Шмидте — одно из первых художественных произведений об этом замечательном человеке. Книга посвящена Севастопольскому восстанию в ноябре 1905 г. и судебной расправе со Шмидтом и очаковцами. В книге широко использован документальный материал исторических архивов, воспоминаний родственников и соратников Петра Петровича Шмидта.Автор создал образ глубоко преданного народу человека, который не только жизнью своей, но и смертью послужил великому делу революции.

Роман «Доктор Сергеев» рассказывает о молодом хирурге Константине Сергееве, и о нелегкой работе медиков в медсанбатах и госпиталях во время войны.
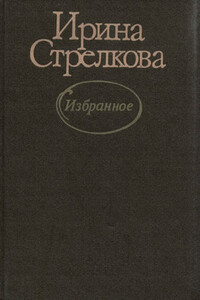
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Из предисловия:Владимир Тендряков — автор книг, широко известных советским читателям: «Падение Ивана Чупрова», «Среди лесов», «Ненастье», «Не ко двору», «Ухабы», «Тугой узел», «Чудотворная», «Тройка, семерка, туз», «Суд» и др.…Вошедшие в сборник рассказы Вл. Тендрякова «Костры на снегу» посвящены фронтовым будням.
