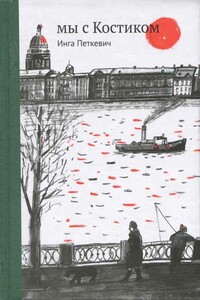— Я летал тридцать лет с гаком, — начал он. — Конечно, летать интересно, но любой полет, запомни это навсегда, любой полет — это прежде всего труд, постоянная будничная работа. — Егоров многозначительно вздохнул, он не знал, что бы еще сказать.
— Вы, кажется, хотите прочитать мне мораль? — ехидно усмехнулся Зуев. — Тогда я лучше пойду.
Егоров вспыхнул от негодования. Он уже завелся не на шутку и не мог допустить, чтобы этот сопляк так подсаживал его. Он разозлился, и его понесло.
— Раз нет у человека крыльев, то и летать ему не обязательно. На земле дел предостаточно, нечего от нее напрасно отрываться, все равно рано или поздно придется приземлиться и снова учиться ходить по земле. Взлетать легко, садиться трудно. Был я когда-то летчиком, но инвалидом и пенсионером быть не желаю. Выходит, повстречались мы с тобой на полпути, тебе — туда, а мне — обратно. Никаких напутствий и благословений я раздавать не собираюсь. Я вышел из игры, я уже не летчик и прошу об этом забыть.
Зуев удивленно разглядывал его краем глаза. Этот наивный человек, как видно, считает, что на его авиации мир клином сошелся, что все только и мечтают, как бы взлететь.
— Хорошо, уговорили, я буду летчиком, — с комической важностью заявил он.
Егоров смущенно потупился. Он понял всю неуместность своих разговоров. Понял, что мальчишке глубоко безразлична вся его авиация с ее проблемами, что его мучают совсем другие вопросы.
— А кем бы ты хотел быть? — спросил он.
— Кинорежиссером, — последовал короткий ответ.
— А, — протянул он, — вот кто нынче конкурирует с коими самолетами. Понятно.
— А вы как думали? — буркнул Зуев неожиданно зло и резко.
Егоров проследил его взгляд.
Внизу под откосом появились две фигурки: мальчик и девочка. Легко и плавно двигались они по рельсам, параллельно друг другу, о чем-то болтали и смеялись. Девочка при этом слегка пританцовывала, легко и грациозно.
— Какая прелестная пара, — явно пародируя кого-то, бросил Зуев.
— Ваши, лагерные? По рельсам ходят.
— Им все позволено. Любимчики. Анина и Слава, — он ткнул пальцем в надпись на камне.
— Кто это их увековечил?
— Не я.
— А ты не любимчик?
— Нет, я «трудный случай». Оппозиция.
— Ну да, а что ты такого делаешь?
— Ничего особенного, просто не люблю, когда придумают какой-нибудь особый подход и давай перевоспитывать!
— А если тебя не перевоспитывать — ты как, ничего?
— Да так, всяко бывает…
Девочка сделала ласточку и застыла, такая хрупкая и воздушная, что Егоров невольно залюбовался.
— Как зовут этого мальчика? — спросил Егоров.
— Святослав, — раздельно произнес Зуев. — Тоже мне святой, — косо усмехнулся он.
Имя совпадало.
— А фамилия? — спросил Егоров.
— Ларин.
Наконец-то он нашел этого мальчика.
— Ты его не любишь? — спросил Егоров.
— Он предатель, — последовал ответ.
— Серьезное обвинение, — сказал Егоров.
— Знаю, что говорю.
— Ты с ним дружил?
— Мне с этим делом не везет, — мрачно изрек Зуев. — Все какое-нибудь дерьмо попадается.
Сказал и обозлился на себя за такую откровенность. Не успел познакомиться с человеком, так сразу же ему все про себя выложил. Правда, человек этот ему чем-то понравился, такой не предаст и не выдаст. Но все равно, это вовсе не значит, что тут же надо раскалываться. Вечно-то его заносит, первому встречному готов все про себя выболтать. И чтобы пресечь дальнейшие вопросы и разговоры, Зуев спрыгнул с камня, подхватил с земли егоровский чемодан.
— Следуйте за мной, — приказал он.
Они пересекали сосновый бор, чистый, торжественный и просторный. По тропинке тихо шла белая лошадь, и они обогнали ее. Зуев поотстал. Он достал из кармана хлеб, заложил руку с хлебом за спину и продолжал путь как ни в чем не бывало. Лошадь, почуяв запах хлеба, шла следом.
Егоров оглянулся и увидел лошадь.
— Это ваша лошадь, лагерная? — спросил он.
— Лошадь? И вправду, лошадь. Откуда тут эта лошадь? Наверное, из зверосовхоза ушла.
Они приближались к лагерю. Территория лагеря была, собственно, тем же сосновым лесом и отделялась от окружающих лесов только легким зеленым заборчиком. Дома в виде теремов, с балкончиками, крылечками, с резными ставнями и петухами, среди сосен выглядели весьма сказочно.
— А лошадь все идет, — сказал Егоров.
— Идет, — согласился Зуев.
— Зря она за нами идет. Ничего хорошего из этого не выйдет.
— А что такого?
— Ты думаешь — ничего?
— Ничего.
Они обогнули длинную постройку с окнами, затянутыми сеткой, очевидно кухню.
— Ну, смотри, пусть это будет на твоей совести, — сказал Егоров и прошел в калитку.
Зуев и лошадь молча проследовали за ним.
Тут был задний двор. Стояли бочки, лежали дрова. Рослая белокурая девочка лениво пересекала двор с помойным ведром в руке.
— Настя! — крикнул Зуев. — Чего там у тебя, очистки, что ли? Давай сюда!
Настя подняла тяжелые ресницы и уставилась на Зуева безмятежными светлыми глазами. Так смотрят из окна проносящегося мимо поезда.
— Ну, чего уставилась! — взорвался тот. — Видишь, лошадь, ее кормить надо.
И правда, кого угодно мог взбесить этот Настин взгляд. Смысл сказанного доходил до нее так безнадежно медленно, что это было просто невыносимо. Так и подмывало оттолкнуть ее неуклюжее тело и сделать все самому.