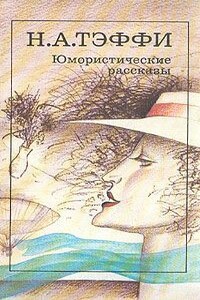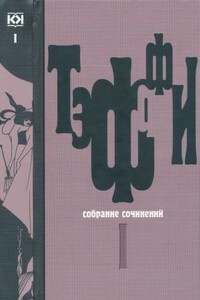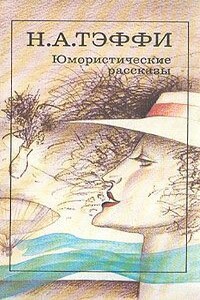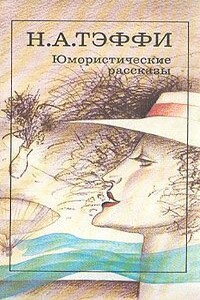Опять зашептали:
– Лешачиха! Лешачиха!
Что за проклятый такой лес, что деревья людей убивают?
Графу ногу зашибло несильно, но испугался он ужасно. Белый стал, как бумага, весь дрожал и сам идти не мог. Тащил его камердинер на плечах, а там уже люди увидели, помогли.
Лешачиха, говорят, у окна стояла и видела, как его внесли, но навстречу не выбежала и только уже поздно ночью спустилась вниз и, тихо отворив дверь, вошла в комнату отца.
Что там было – никто не знает. Только так до утра они и пробыли вместе.
А утром послал граф с нарочным большое, тяжелое письмо молодой панночке Янине и при письме одну розу. И еще послал коляску в местечко за нотариусом, и долго они с нотариусом что-то писали; потом говорили, как будто он добрую часть имения отписал на управляющеву дочку. А Лешачиха все время в комнате была и от графа не отходила.
А на другое утро подали дорожную карету и бричку для вещей, и вышел старый граф с дочкой, с Лешачихой. И все заметили, что граф был белый как мел и голова у него тряслась. Лешачиха его под руку вела. А у самой у нее за одну ночь лицо ссохлось – только брови да усы.
Сели они оба в карету и уехали.
Кучер потом врал, будто граф всю дорогу молчал, а Лешачиха плакала. Ну да этому, конечно, никто не поверил. Разве может Лешачиха плакать? Даже смешно!
Поздней осенью по дороге на вокзал проезжали мы мимо графской усадьбы.
Парк стал прозрачным и холодным. Через голые сучья просвечивал дом с забеленными ослепшими окнами.
На веревке, протянутой между строгих колонн подъезда, висели какие-то шубы.
Островок посреди пруда, облезлый и мокрый, казалось, наполовину затонул.
Я искала глазами лебедя…