Лешачиха - [2]
– Зачем же листочки не бросили?
– Да она не ве-ле-е-е-ла!
Вскоре пришла из сада и Ядя. Шла гордо, придерживая рукой лохмы своего платья. Ложась спать, раздеваться отказалась, сняла только башмаки и повернулась к стене.
Мама говорила сестрам:
– Не обращайте внимания на ее фокусы. Это она, вероятно, из патриотизма не хочет ни есть, ни разговаривать в русской семье. Совсем дикая девочка, ни одна гувернантка не в силах с ней справиться. Старик надеялся, что она с вами подружится…
В шесть часов утра прискакал от графа нарочный с письмом, в котором граф умолял простить его за причиненные неприятности и не волноваться, потому что дочь его уже благополучно вернулась домой.
Кинулись в угловую, где Ядя ночевала: постель пуста, окно настежь. Оказывается, ночью сбежала домой. А ведь до их усадьбы было не меньше десяти верст!
После завтрака приехал старый И. Очень извинялся и, по-видимому, был страшно расстроен.
У нас все, конечно, делали вид, что выходка его дочки очень мила и забавна, и просили расцеловать «cette char-mante petite sauvage». [1] Но потом долго возмущались.
А графа и его буйную девицу не видали мы после этого года четыре и встретились как раз, когда началась дикая история, о которой я, собственно, и хочу рассказать.
Возвращались мы с какой-то поездки. Ехали через графский лес.
Лес был густой, совсем дремучий, шумели в нем среди лип, дубов и берез и высокие ели, что в этих краях довольно редко.
– Гу-гу-гу! – закричало из чащи.
– У-у-у! – ответило эхо.
– Это что же – сова? – спросили мы у кучера. Он, не отвечая, мотнул головой и стегнул лошадей.
– Гу-гу-гу!
– У-у-у!
– Это, верно, разбойники… – шепнула сестра. – Или волки…
Всегда у русских детей какой-то страх в лесу. Такое «гу-гу-гу» где-нибудь на лужайке или на поле не произвело бы никакого впечатления, а в лесу – страшно. Лес «темный» не только по цвету своему, но и по тайным силам.
В лесу для детей живет волк. Не тот волк, за которым гоняются охотники, похожий на поджарую собаку с распухшей шеей, а могущественное существо, лесной хозяин, говорящий человеческим голосом, проглатывающий живую бабушку. Узнают о его существовании по сказкам раньше, чем видят на картинках, и поэтому представляется он детскому воображению таким неистовым чудовищем, какого потом за всю жизнь не увидишь на нашей скучной земле.
Одна крошечная девочка спрашивала у меня:
– А как железная дорога ночью ходит? Как же она не боится?
– Чего?
– А вдруг встретит волка?
Так вот, это «гу-гу-гу» в темной глубине леса испугало нас. Конечно, мы понимали, что волки тут ни при чем, да и разбойникам, пожалуй, кричать незачем. Но было что-то зловеще-незвериное в этом крике.
А кучер молчал, и уж только когда мы выехали на луговину, повернулся и сказал:
– Лешачиха кричит.
Мы удивленно переглянулись.
– Это, верно, здесь так называют какую-нибудь породу сов.
Но кучер повернулся снова и сказал строго:
– Не совиной она породы, а графской. И опять прибавил:
– Лешачиха.
Мы молчали, ничего не понимая, и он заговорил снова:
– Графская панночка, грабянка, дочка. Когда старый граф на охоту идет, она ему со всего лесу дичину гонит. Тогда она по-другому кричит. А сегодня, значит, одна гуляет. Нехорошо у них!
Что нехорошо и почему она кричит – ничего мы не разобрали, а стало как-то жутко.
– Это что же – та самая дикая Ядя, которая у нас ночевала?
– Очевидно, она. Чего же она кричит?
Рассказали дома необычайное это событие. Старая ключница засмеялась.
– Ага! Лешачиху слышали! Наша Гапка работала у них на огороде, пошла на пруд с ведром. Стала воду черпать, а за кустом кто-то, слышно, плещет. Взглянула – а это панночка купается, и вся она до пояса в шерсти, как собака. Гапка как крикнет и ведро упустила. А Лешачиха прыг в воду да и сгинула. Видно, на самое дно ушла.
Разыскали Гапку. Она как будто была испугана, что мы все знаем. Отвечала сбивчиво. Верно, все наврала, а теперь не знала, как и быть.
Ввиду всего этого стали много говорить о дикой графине. Местные люди рассказывали, что она болезненно любила своего отца, а он ее не очень. Должно быть, стыдился, что она такая неладная…
А вскоре объявился у нас и сам граф.
Приехал в своей коляске на четверке цугом и привез целых двух дочек: Ядю и другую, старшую, Элеонору, о которой мы и не знали. Воспитывалась она, оказывается, в Швейцарии, потому что с детства была туберкулезная и дома держать ее было нельзя.
Эта другая дочка была совсем другого ладу. Очень тоненькая, бледная, сутулая, в пепельных локонах, лицом похожая на графа, манерами томная, одетая по-заграничному.
Наша Ядя явилась в каком-то диком платье из скверного желтого шелка, очевидно, работы местечковой портнихи. За эти четыре года разрослась она в дюжую девку, брови у нее соединились в прямую черту и на верхней губе зачернелись усики.
Граф, видимо, гордился своей старшей. Звал ее ласково «Нюня», смотрел на нее любовно, даже как-то кокетливо. Рассказывал, как он ожил с ее приездом, что целые дни они вместе читают, гуляют и что больше он ее от себя уже не отпустит.
Ядя сидела мрачная и очень беспокойная. Краснела пятнами, молчала и только перебивала, когда сестра ее хотела что-нибудь сказать.
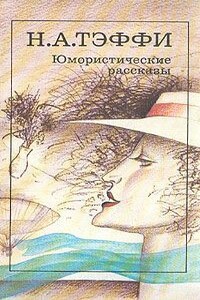
Книга Надежды Александровны Тэффи (1872-1952) дает читателю возможность более полно познакомиться с ранним творчеством писательницы, которую по праву называли "изящнейшей жемчужиной русского культурного юмора".

Среди мистификаций, созданных русской литературой XX века, «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“» (1910) по сей день занимает уникальное и никем не оспариваемое место: перед нами не просто исполинский капустник длиной во всю человеческую историю, а еще и почти единственный у нас образец черного юмора — особенно черного, если вспомнить, какое у этой «Истории» (и просто истории) в XX веке было продолжение. Книга, созданная великими сатириками своего времени — Тэффи, Аверченко, Дымовым и О. Л. д'Ором, — не переиздавалась три четверти века, а теперь изучается в начальной школе на уроках внеклассного чтения.
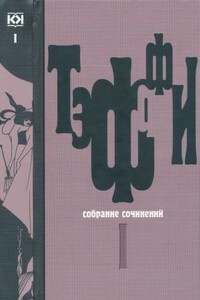
Надежда Александровна Тэффи (Лохвицкая, в замужестве Бучинская; 1872–1952) – блестящая русская писательница, начавшая свой творческий путь со стихов и газетных фельетонов и оставившая наряду с А. Аверченко, И. Буниным и другими яркими представителями русской эмиграции значительное литературное наследие. Произведения Тэффи, веселые и грустные, всегда остроумны и беззлобны, наполнены любовью к персонажам, пониманием человеческих слабостей, состраданием к бедам простых людей. Наградой за это стада народная любовь к Тэффи и титул «королевы смеха».В первый том собрания сочинений вошли две книги «Юмористических рассказов», а также сборник «И стало так…».http://ruslit.traumlibrary.net.
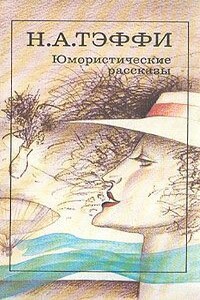
Книга Надежды Александровны Тэффи (1872-1952) дает читателю возможность более полно познакомиться с ранним творчеством писательницы, которую по праву называли "изящнейшей жемчужиной русского культурного юмора".

Надежда Тэффи, настоящее имя Надежда Александровна Лохвицкая (1872–1952), писала юмористические рассказы не только для взрослых, но и для детей. В эту книгу вошли такие произведения, как «Приготовишка», «Кишмиш», сказка «Чёртик в баночке» и другие. Дети в этих рассказах много размышляют над странностями взрослых людей и мечтают о чём-то небывалом. Тэффи по-доброму пишет про наивные детские поступки, отчего её рассказы излучают нежность и любовь к ребёнку. Иллюстрации современных художников С. Бордюга и Н. Трепенок. Для младшего школьного возраста.
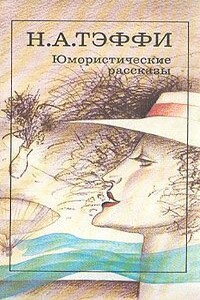
Книга Надежды Александровны Тэффи (1872-1952) дает читателю возможность более полно познакомиться с ранним творчеством писательницы, которую по праву называли "изящнейшей жемчужиной русского культурного юмора".

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.