Лермонтов и христианство - [178]
Казалось бы, нет необходимости защищать того, кто в защите не нуждается. Но, считаясь с числом «исторических» недоброжелателей, всякого рода «мемуаристов», «эссеистов», ненавистников и завистников гения, до сих пор боящихся его «железного стиха» и льющих крокодиловы слёзы по «бедным жертвам» острого языка поэта, – скажу этим господам: Лермонтов «в гордыне своей» не себя «мерил», а лишь пытался «достать собой» до вершин того, на что нацелен был его гений. Именно этим «мерил себя» поэт – в этом было его высокомерие. Лермонтов рождён был значительной исторической личностью, по делам своим долженствующей выйти за пределы непосредственно Российского государства. В этом убеждает масштаб его талантов, а более всего – сущности поэта. Устами своих героев Лермонтов приоткрывает завесу своего высокого избранничества, которое в ипостаси отечественного служения не реализовалось и не могло реализоваться в России, скроенной на прусско-французский лад.
Вспомним, в критический момент жизни – перед самой дуэлью – Печорин заглядывает в себя: «Пробегаю в памяти всё моё прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? Для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначенье высокое, потому что я чувствую в себе силы необъятные…». Приоткрывая неслучившееся, Лермонтов, «уйдя в себя», говорит здесь от самого себя, после чего, возвращаясь к герою своего времени и затронутой в романе теме, заканчивает мысль от его уже имени. Эту мысль так же пронизывает печаль и тяжёлая горечь автора: «Но я не угадал этого назначения, я увлёкся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел твёрд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений – лучший цвет жизни. …Смешно и досадно!», – будто жалея, что проговорился как за себя, так и за своего героя, заключает Лермонтов свой монолог.
Между тем «досада» кроется не столько в личности, в данный момент как будто переоткрывшего себя Лермонтова, и не в словах героя. Истинная досада автора, возможно, питается комплексом противоречий XVII, а может, и предшествующего века… По всей видимости, что-то произошло, что-то сломалось в «механизме» истории (а в России это, надо сказать, случается чаще, чем где-либо), и мощные крылья творчества и незатребованной гражданской деятельности Лермонтова скомканы были повсеместно воцаряющимся «белым» Безвременьем (о чем позже поведали миру философ Н. Я. Данилевский и взваливший на себя «бремя Лермонтова» Ф. М. Достоевский). В отрочестве ещё, провидя свою судьбу, поэт догадывался о своём «личном бремени», а потому готовился к борьбе с неведомым ему поначалу Противником, который со временем приобрёл более ясные – демонские черты. Потому, в предвестии «затяжных боёв» ему важно было знать свою силу. Отсюда «копание в себе», которое лучше назвать подготовлением себя к великому делу. Однако «дело Лермонтова», неотделимое от судеб Родины, видимо, исторически запоздало… И «запоздалость» эта предопределена была неумением духовно разрозненного народа отстоять свою самобытность перед никогда не изменявшими своей самости историческими недругами, то бишь неверными «наставниками» России. Как бы там ни было, «ставшая неугодной истории» жизнь Лермонтова отвержена была от Отечества. Это, очевидно, и предрешило в самом начале великого служения печальную судьбу поэта, рождённого воином.
Словом, «собой занят» был Лермонтов не в силу эгоизма, любого сердцу едва ли не всякого интеллектуала, а по той причине, по какой мыслящий человек, отвергая пустую, отдает предпочтение умной книге. Лермонтову, умевшему читать подлинные страницы здешнего бытия, горько и скучно было перебирать пустые листы, вычитывая жалкие строки нуворишей и себялюбцев, равно как и приживальщиков без чести (к которым он – и это хорошо известно – никак не относил «маленького человека»).
Отсюда «занятость» Лермонтова. Поняв это после второй встречи с поэтом (1840), «неистовый Виссарион» (Белинский) с восторгом пишет И. И. Панаеву: «Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке!». И тогда же сообщает В. П. Боткину: «Какой глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и непосредственный дух изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! … меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ним благоговею и смиряюсь в сознании своего ничтожества…».
Сам Панаев в своих воспоминаниях «просто» отмечал, что «Лермонтов был неизмеримо выше среды, окружавшей его». Правда, это мнение менее всего разделяли те литераторы, которым «чертовски не везло» с журналами. Иное дело независимые, честные и умные люди, к коим относилась княгиня Е. А. Долгорукая. По словам издателя «Русского архива» П. И. Бартенева, «женщина необыкновенного ума и высокой образованности, ценимая Пушкиным и Лермонтовым», считала, что «Лермонтов в запросах своих был много выше и глубже Пушкина».
Мы вовсе не обязаны возводить в абсолют оценку этой славной женщине, но именно ей, цитирую Бартенева, «Лермонтов раскрывал тайны души своей, а от умиравшего Пушкина не отходила она по целым часам и, стоя на коленях, слышала его последние заветы жене и друзьям»[25].

В книге «Цепи свободы» В. И. Сиротин даёт своё видение «давно известных и хорошо изученных» событий и фактов. По ряду причин он ставит под сомнение начало и причины II Мировой войны, даёт и обосновывает свою версию «Малой II Мировой», начавшейся, как он считает, в 1933 г. Развенчивая ряд мифов XX в., доказывает, что развитие «новой мифологии» привело к внеэволюционному изменению векторов мировой истории, вследствие чего дробятся великие культуры и стираются малые. Автор убеждает нас, что создание цивилизации однообразия и «культурного потребления» входит в задачу Глобализации, уничтожающей в человеке личность, а в обществе – человека.

В «Великой Эвольвенте» В. И. Сиротин продолжает тему, заявленную им в книге «Цепи свободы», но акцент он переносит на историю Руси-России. Россия-Страна, полагает автор, живёт ещё и несобытийной жизнью. Неслучившиеся события, по его мнению, подчас являются главными в истории Страны, так как происходящее есть неизбежное продолжение «внутренней энергетики» истории, в которой человек является вспомогательным материалом. Сама же структура надисторической жизни явлена системой внутренних компенсаций, «изгибы» которых автор именует Эвольвентой.

Как наследие русского символизма отразилось в поэтике Мандельштама? Как он сам прописывал и переписывал свои отношения с ним? Как эволюционировало отношение Мандельштама к Александру Блоку? Американский славист Стюарт Голдберг анализирует стихи Мандельштама, их интонацию и прагматику, контексты и интертексты, а также, отталкиваясь от знаменитой концепции Гарольда Блума о страхе влияния, исследует напряженные отношения поэта с символизмом и одним из его мощнейших поэтических голосов — Александром Блоком. Автор уделяет особое внимание процессу преодоления Мандельштамом символистской поэтики, нашедшему выражение в своеобразной игре с амбивалентной иронией.

В книге, посвященной теме взаимоотношений Антона Чехова с евреями, его биография впервые представлена в контексте русско-еврейских культурных связей второй половины XIX — начала ХХ в. Показано, что писатель, как никто другой из классиков русской литературы XIX в., с ранних лет находился в еврейском окружении. При этом его позиция в отношении активного участия евреев в русской культурно-общественной жизни носила сложный, изменчивый характер. Тем не менее, Чехов всегда дистанцировался от любых публичных проявлений ксенофобии, в т. ч.
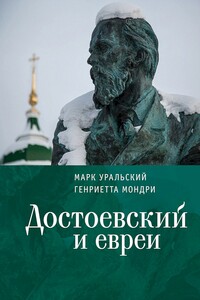
Настоящая книга, написанная писателем-документалистом Марком Уральским (Глава I–VIII) в соавторстве с ученым-филологом, профессором новозеландского университета Кентербери Генриеттой Мондри (Глава IX–XI), посвящена одной из самых сложных в силу своей тенденциозности тем научного достоевсковедения — отношению Федора Достоевского к «еврейскому вопросу» в России и еврейскому народу в целом. В ней на основе большого корпуса документальных материалов исследованы исторические предпосылки возникновения темы «Достоевский и евреи» и дан всесторонний анализ многолетней научно-публицистической дискуссии по этому вопросу. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

«Лишний человек», «луч света в темном царстве», «среда заела», «декабристы разбудили Герцена»… Унылые литературные штампы. Многие из нас оставили знакомство с русской классикой в школьных годах – натянутое, неприятное и прохладное знакомство. Взрослые возвращаются к произведениям школьной программы лишь через много лет. И удивляются, и радуются, и влюбляются в то, что когда-то казалось невыносимой, неимоверной ерундой.Перед вами – история человека, который намного счастливее нас. Американка Элиф Батуман не ходила в русскую школу – она сама взялась за нашу классику и постепенно поняла, что обрела смысл жизни.