Лекции по философии литературы - [112]
Мысли единственного заключенного круглой крепости собираются вокруг невидимой пуповины:
«И еще я бы написал о постоянном трепете… и о том, что всегда часть моих мыслей теснится около невидимой пуповины, соединяющей мир с чем-то, — с чем, я еще не скажу…» (4,75). В таком пренатальном положении он, «как кружка к фонтану, цепью прикован к этому столу» (4,102). Имя героя, «Цинциннат», — лат. «курчавый, кудрявый», чей эмблематический инициал «С» — как свиток, как грамота, как свернувшееся тело ребенка; и с самого начала романа, под выстрелом взгляда в тюремный глазок, герой сворачивается: «Цинциннат ощущал холодок у себя в затылке. Он вычеркнул написанное и начал тихо тушевать, причем получился зачаточный орнамент, который постепенно разросся и свернулся в бараний рог»(4,48). Розанов говорил о себе: «Я похож на младенца в утробе матери, но которому вовсе не хочется родиться. „Мне и тут тепло“» (II, 232).
Время течет здесь под хлебниковским девизом, нацарапанным неизвестно кем на стене каземата: «Еще можно было разобрать одну ветхую и загадочную строку. „Смерьте до смерти, — потом будет поздно“» (4,57). Мера не тюремному миру должна соответствовать, а имплицировать и инициировать новый, свой мир. Два основных измерительных прибора времени заточения — карандаш и алфавит. Ими исполняется срок. Карандашу противостоят крепостные куранты с их арифметической крошкой и банальной унылостью времени. Цинциннат проводит в тюрьме девятнадцать дней, по главе на день. Каждая глава начинает новый день, но последний день растягивается на две главы — девятнадцатую и двадцатую. В начале романа это «изумительно очиненный карандаш, длинный как жизнь любого человека, кроме Цинцинната. (…) Просвещенный потомок указательного перста» (4,48). Равный жизни любого человека, этот надежный хронометр парадоксальным образом соизмерим лишь с остатком жизни набоковского героя. Сам роман, сокращаясь вместе с карандашом, длиной с него. Последние дни Цинцинната буквально сочтены, — исчислены по номерам глав, по одному дню per capita libri, и термин его заключения в романе кончается тогда, когда в последней главе он кладет голову на плаху. Таким образом, книга и ее герой обезглавлены одновременно. Карандаш, тающий, как свеча, не просто внешнее высказыванию орудие письма, а нечто внутреннее — место сосредоточения, высказывания смысла. Он — язык пространства, сжимающегося до точки. Карандаш кровоточит пространством. Цинциннат уже предрекает как воспоминание о будущем это прохождение точки «я есмь!»: «Я исхожу из такого жгучего мрака, таким вьюсь волчком, с такой толкающей силой, пылом, — что до сих пор ощущаю (порою во сне, порою погружаясь в очень горячую воду) тот исконный мой трепет, первый ожог, пружину моего я. Как я выскочил, — скользкий, голый» (4,98–99). Он приближается к точке пуска космической ракеты, где отсчет ведется в обратном порядке. Именно так ведут себя буквы кириллицы, выскакивающие по мере убывания книги в обратном порядке. Текст и алфавит противонаправлены: роман развертывается от начала к концу, алфавит — от своего конца к началу, от ижицы к азу. Алфавит — символическая лестница восхождения. По мнению Д. Бартона Джонсона, Набоков обыгрывает двойную роль церковнославянского «аза» как первой буквы алфавита и как местоимения первого лица. Цинциннат, используя известный фразеологизм — «начать с азов», то есть с самого начала, вместе с тем говорит о том, что, будь у него возможность, он сумел бы высказать свое сокровенное «я», потому что он единственный, кто владеет истиной. Накануне смерти герои оказывается на пороге своего «я», выхода из «темницы языка», начала своей подлинной жизни[60]. Дойдя до «Аз», головы и начала алфавита, Цинциннат зачеркивает слово «смерть» в торжество жизни: «„Ах, знай я, что так долго еще останусь тут, я бы начал с азов и, постепенно, столбовой дорогой связных понятий, дошел бы, довершил бы, душа бы обстроилась словами… Все, что я до сих пор тут написал, — только пена моего волнения, пустой порыв, — именно потому, что я так торопился. Но теперь, когда я закален, когда меня почти не пугает…“
Тут кончилась страница, и Цинциннат спохватился, что вышла бумага. Впрочем, еще один лист отыскался.
„…смерть“, — продолжая фразу, написал он на нем, — но сразу вычеркнул это слово; следовало — иначе, точнее: казнь, что ли, боль, разлука — как-нибудь так; вертя карликовый карандаш, он задумался…» (4,175).
Цинциннат одолеет себя. Его путь лежит не столбовой дорогой связных понятий, а горным серпантином какого-то экзистенциального подъема. Согласно Набокову, происходит освобождение духа из глазниц плоти и превращение в сплошное око, зараз видящее во все стороны света. Рождение нового человека из тела человека ветхого, как говорили древние. Цинциннат — картезианское существо. Второе рождение — основная тема Декарта, которого звали «Ренатус», что означает «вновь рожденный». Формальное совпадение имени с философским пафосом на деле выдает какой-то закон внутренней формы, связывающий имена с нашей жизнью. Жизнь исполняет то, что заложено в этой внутренней форме. Имя от рождения почти случайно, оно еще не обеспечено валютой подлинного существования. Оно заключает в себе наперед взятое (Name ist Vorwegnahme) и нацеленное в будущее предвосхищение внутренней сущности обладателя имени во всей высвобождающейся полноте.

Книга посвящена поэтике одного из крупнейших представителей Серебряного века — Осипа Мандельштама. Однако его творчество взято в широком разрезе — от И. Ф. Анненского до позднего Набокова (диахронически) и Хлебникова, Пастернака и Маяковского (синхронистически). Главный интерес составляют межъязыковые игры.Книга рассчитана на самый разнообразный круг читателей, интересующихся русской поэзией начала XX века.

Данная книга, являющаяся непосредственным продолжением нашей совместной работы: Г. Г. Амелин, В. Я. Мордерер «Миры и столкновенья Осипа Мандельштама» (М.: Языки русской культуры, 2000), посвящена русской поэзии начала XX века. Имманентные анализы преобладают. Однако есть и общая интертекстуальная топика. Три главных героя повествования – Хлебников, Мандельштам и Пастернак – взяты в разрезе некоторых общих тем и глубинных решений, которые объединяют Серебряный век в единое целое, блистательно заканчивающееся на Иосифе Бродском в поэзии и Владимире Набокове в прозе.«Письма о русской поэзии» рассчитаны на философов, литературоведов и всех, кто интересуется русской поэзией.

Макс Нордау"Вырождение. Современные французы."Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.

В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является.

В Тибетской книге мертвых описана типичная посмертная участь неподготовленного человека, каких среди нас – большинство. Ее цель – помочь нам, объяснить, каким именно образом наши поступки и психические состояния влияют на наше посмертье. Но ценность Тибетской книги мертвых заключается не только в подготовке к смерти. Нет никакой необходимости умирать, чтобы воспользоваться ее советами. Они настолько психологичны и применимы в нашей теперешней жизни, что ими можно и нужно руководствоваться прямо сейчас, не дожидаясь последнего часа.

На основе анализа уникальных средневековых источников известный российский востоковед Александр Игнатенко прослеживает влияние категории Зеркало на становление исламской спекулятивной мысли – философии, теологии, теоретического мистицизма, этики. Эта категория, начавшая формироваться в Коране и хадисах (исламском Предании) и находившаяся в постоянной динамике, стала системообразующей для ислама – определявшей не только то или иное решение конкретных философских и теологических проблем, но и общее направление и конечные результаты эволюции спекулятивной мысли в культуре, в которой действовало табу на изображение живых одухотворенных существ.
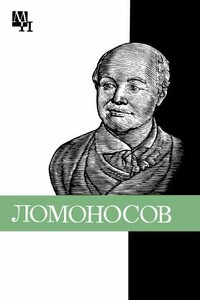
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова (1711—1765), выдающегося русского ученого, естествоиспытателя, основоположника физической химии, философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».Для широкого круга читателей.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.