Легенды старого Петербурга - [2]
— Ты что?.. — удивленно спросил его царь.
— Гораздо великое число кораблей на море появилось, государь, с какою вестью и послан…
И будто в подтверждение его слов издалека донеслись два гулких пушечных выстрела.
— Извествуют о себе в Ниен, — усмехнулся царь. — Не ведомо им еще… Беги к Меншикову с приказом — немедля салютовать дважды!
Сержант побежал, придерживая свою шпагу, к невысоким земляным укреплениям Ниеншанца. Прошло несколько мгновений… Две шведские мортиры, направленные вниз по Неве, тяжко грохнули, окутываясь облаками дыма…
— Шведы, шведы! — закричали где-то. — Шведы наступают!..
Тревожно затрещали барабаны, послышались крики команды, тени забегали по крепости из казарм и в казармы…
— Ваше величество! — запыхавшись подбежал к смеявшемуся Петру солдат. — Шведы наступают!..
Переполошились и пленные шведы, вскочили на ноги, изумленно озираясь и не понимая, что творится вокруг.
Но скоро все объяснилось, и веселый царь почтительно стоял уже пред фельдмаршалом.
— Извествую вам, что гости пожаловали с моря, чего ради с моего приказу дважды от мортир салютовано оным…
5 мая 1703 года.
Каждый день — утром и вечером — со стен Ниеншанца гремели ответные выстрелы эскадре Нумберса[6], не решавшейся войти в Неву из-за низкой воды.
Поехавшие со шведских кораблей за лоцманами матросы были переловлены сторожами-гвардейцами и доставлены к царю в «Канцы» — как звали солдаты Ниеншанц.
Наконец сегодня снова явился гонец с известием, что два корабля из эскадры подошли к самой Неве и стали на якорях.
К вечеру «бомбардир-капитан Петр Михайлов» и поручик Александр Меншиков, как опытные в морском деле люди, по приказу фельдмаршала отправились с солдатами на тридцати лодках на «поиск».
Тихо проплыли они мимо королевского Ниенского госпиталя с громадным садом, миновали Березовый остров с одинокими избушками досмотрщиков за сплавом леса…
Петр на передней лодке переговаривался по-шведски со стариком рыбаком, взявшимся проводить русскую флотилию на возморье.
— Так тою речкою доступно ко возморью выйти? — спрашивал Петр, указывая на Фонтанку.
— Можно, можно… Там деревушки есть, по левому берегу — Каллина и Ремана… А другой путь — прямо, мимо Лосьего острова[7],— шамкал старик, указывая на Васильевский остров.
Безлюдные, покрытые густым лесом с торчащими верхушками сосен берега наводили тоску и уныние на молодцов-гвардейцев.
— Новую, слышь, фортецию строить будут, — шептались на лодках. — Уж и житье — в грязи, да в воде, ровно кулики на болоте… А и светлая ж ночь здесь, братцы, что наш вечер московский… Все видно, как днем…
— Ты, Александр Данилыч, иди по реченке этой, в обход. Выйдете на возморье и ждите — как завидите наши лодки, на встречу идите, поспешая всемерно, — распоряжался Петр. — А мы с тобой, Гаврила Иваныч, по Неве пойдем.
Флотилия разделилась: семнадцать лодок пошли с Меншиковым по Фонтанке, а на остальных тринадцати Петр и Головкин поплыли Невою, прячась у лесистых берегов Лосьего острова.
Среди ночной тишины резко раздавались мерные всплески весел, изредка поскрипывал руль, да в кустах, на берегу, посвистывали какие-то птички.
Зоркие глаза Петра увидали вдали, на слившейся с ночным небом полосе воды, две темные точки.
— Они? — спросил царь у проводника.
Тот молча кивнул головою, раскуривая свою трубочку.
Хватаясь руками и баграми за сучья и ветви, солдаты, по знаку царя, притянули лодки к берегу и притаились…
Петр ждал минуты, когда станет немного хоть темнее от бродивших по небу туч, чтобы врасплох напасть на шведов.
Наконец, набежала тучка и прыснул маленький дождичек. Петр поднялся со скамьи и махнул рукой…
Застучали весла, взвизгнули уключины, и восемь лодок вынырнули вперед; остальные остались в запасе.
Часовые на шняве «Астриль» мирно дремали, кутаясь от дождя в свои плащи, и не видали мчавшихся на них лодок… Стучит но палубе дождик, поскрипывают снасти, вода заливается сторожу со шляпы на шею…
Хочет он плотнее закутаться плащом и, словно во сне, видит солдат на лодках, чужие мундиры; слышит как часто и мерно плескают весла…
— Тревога! Тревога! — кричит он и бежит по мокрой и скользкой палубе к трюму…
— Заметили!.. Дружней на весла, на правый борт! — доносится с лодок звучный голос «бомбардир-капитана».
— Багры на нос! — кричат там и звякают ружейные стволы, молодцы-гренадеры берут в руки гранаты, топоры…
«Астриль» встречает незваных гостей ружейным залпом, артиллеристы спешат к пушкам, спотыкаясь и толкая друг друга, еще не очнувшись от сладкого сна…
Гранаты летят и разрываются на палубе, крик и стон идет вокруг, а на борт «Астрили» влез уж громадный «капитан» с топором и гранатой в руках… Один за другим лезут но пятам за ним, как кошки, преображенцы…
Жестокая схватка, грудь с грудью, крики о помощи — и восьмипушечный «Астриль» в руках Петра, а на палубе десятипушечного адмиральского бота «Гедан» уже распоряжается «Данилыч»…
Команда сдается, из восьмидесяти человек осталось всего тринадцать, почти всех перекололи расходившиеся солдаты.
— Лодки крепить на канаты! — распоряжается царь, а на востоке желтеет и розовеет ночное небо…
Взошло уж и солнце, а храбрецов все нет. Тревожится старый фельдмаршал, тревожится и адмирал Головин
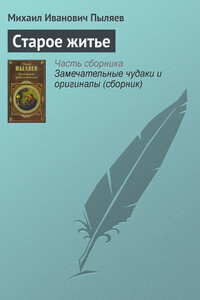
«В XVII столетии еда наших предков была крайне неприхотливая: обыкновенною пищею простого народа был ржаной и ячменный хлеб с чесноком, или ячменная кашица. Щи составляли уже роскошное кушанье и даже больше того, если в них было ржаное свиное сало. В военное время в войсках пища была – сухари и толокно. По свидетельству иностранных посланников, поваренное искусство русских состояло из множества блюд, но нечистота и еще более чесночный и луковый запах делали их почти несъедобными, притом почти все кушанья приправлены были конопляным маслом или испорченным коровьим…».
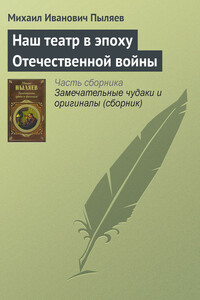
«В знаменательный год Отечественной войны деятельность русского театра в Петербурге не прерывалась. Напротив, репертуар новых патриотических пьес каждодневно обогащался; появилось даже много балетов, относящихся к военным событиям того времени. Спектакли в этот год давали только на Малом театре (нынешний Александрийский) и в доме Кушелева, где теперь Главный штаб. На первом играли французы и русские, на втором – немцы и молодая русская труппа, составленная из воспитанников театрального училища и немногих вновь определяющихся дебютантов…».
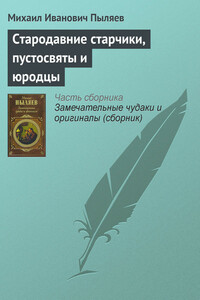
«В самом начале появления юродивых уже являлись люди, которые для своих корыстных целей пользовались легковерием народа. Иоанн Грозный во втором послании к собору жалуется, что «лживые пророки, мужики и женки, и девки, и старые бабы бегают из села в село, нагие и босые, с распущенными волосами, трясутся и бьются, и кричат, св. Анастасия и св. Пятница велят им» и проч. …».
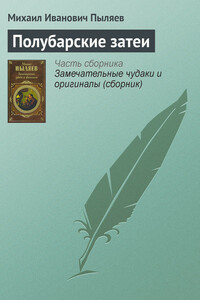
«В начале нынешнего и в конце прошлого столетия в нашем дворянском быту театр и музыка получили широкое развитие, наши баре тогда сосредоточили особенное внимание на сценических представлениях; и не было ни одного богатого помещичьего дома, где бы не гремели оркестры, не пели хоры и где бы не возвышались театральные подмостки, на которых и приносили посильные жертвы богиням искусства доморощенные артисты. Эти затеи баре, как ни были они иногда смешны и неудачны, но все-таки развивали в крепостных людях, обреченных коснеть в невежестве, грамотность и понятия об изящном.
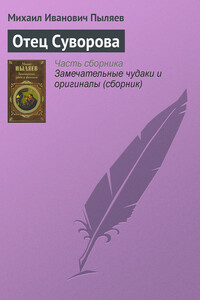
«В нашей исторической литературе нет совсем биографии Василия Ивановича Суворова, а между тем это был человек далеко незаурядный. Для облегчения будущего биографа В. И. Суворова я сообщаю в настоящей заметке те немногие и отрывочные сведения о нем, которые мне удалось найти как в печатных, так и в рукописных источниках…».
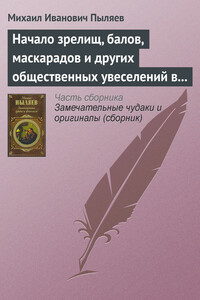
«Скоморохи всегда были любезны русскому народу, они были не только музыканты, но соединяли в себе разные художества: одни играли на гуслях, гудке, сопели, сурме (трубе), другие били в накры, бубны, третьи плясали, четвертые показывали медведей, собак. Были и глумцы, стихотворцы-сказочники, умевшие прибаутками и сказочными присказками потешать и разглаживать морщины слушателя. Некоторые из них носили на голове доску с движущимися фигурами и забавляли зрителя позорами или сценическими действиями, такие наряжались в скоморошное платье, надевали на себя хари, личины и т. д.

Книга известного церковного историка Михаила Витальевича Шкаровского посвящена истории Константино польской Православной Церкви в XX веке, главным образом в 1910-е — 1950-е гг. Эти годы стали не только очень важным, но и наименее исследованным периодом в истории Вселенского Патриархата, когда, с одной стороны, само его существование оказалось под угрозой, а с другой — он начал распространять свою юрисдикцию на разные страны, где проживала православная диаспора, порой вступая в острые конфликты с другими Поместными Православными Церквами.

Н.Ф. Дубровин – историк, академик, генерал. Он занимает особое место среди военных историков второй половины XIX века. По существу, он не примкнул ни к одному из течений, определившихся в военно-исторической науке того времени. Круг интересов ученого был весьма обширен. Данный исторический труд автора рассказывает о событиях, произошедших в России в 1773–1774 годах и известных нам под названием «Пугачевщина». Дубровин изучил колоссальное количество материалов, хранящихся в архивах Петербурга и Москвы и документы из частных архивов.

Наполеон III — это имя для подавляющего большинства ассоциируется с прозвищем «Наполеон Малый» и воспринимается как пародийная копия своего дяди — императора Наполеона I. Так ли это? Современная Италия и Румыния, туристическая Мекка — Париж, инженерное чудо — Суэцкий канал, межокеанские судоходные линии, манящие огни роскошных торговых центров, основы социального законодательства и многое другое — наследие эпохи правления Наполеона III. История часто несправедлива. По отношению к первому президенту Французской республики и последнему императору французов эта истина проявилась в полной мере. Данная книга — первая на русском языке подробная биография одной из самых интересных и влиятельных личностей мировой истории, деятельность которой несколько десятилетий определяла жизнь народов Европы и мира. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В монографии рассматриваются произведения французских хронистов XIV в., в творчестве которых отразились взгляды различных социальных группировок. Автор исследует три основных направления во французской историографии XIV в., определяемых интересами дворянства, городского патрициата и крестьянско-плебейских масс. Исследование основано на хрониках, а также на обширном документальном материале, произведениях поэзии и т. д. В книгу включены многочисленные отрывки из наиболее крупных французских хроник.

Подписание в Большом Трианонском дворце в пригороде Парижа в 1920 г. мирного договора между державами-победительницами в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией стало одним из самых трагических событий в венгерской истории ХХ в., оставивших след в массовом сознании и политической культуре. Книга адресована всем, кто хочет пойти дальше реконструкции внешней канвы событий, кто ищет глубинные объяснения неочевидным связям дня сегодняшнего с минувшим, кто не берет на веру «горячие» новости, газетные спекуляции, легенды и домыслы. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Известный историк науки из университета Индианы Мари Боас Холл в своем исследовании дает общий обзор научной мысли с середины XV до середины XVII века. Этот период – особенная стадия в истории науки, время кардинальных и удивительно последовательных перемен. Речь в книге пойдет об астрономической революции Коперника, анатомических работах Везалия и его современников, о развитии химической медицины и деятельности врача и алхимика Парацельса. Стремление понять происходящее в природе в дальнейшем вылилось в изучение Гарвеем кровеносной системы человека, в разнообразные исследования Кеплера, блестящие открытия Галилея и многие другие идеи эпохи Ренессанса, ставшие величайшими научно-техническими и интеллектуальными достижениями и отметившими начало новой эры научной мысли, что отражено и в академическом справочном аппарате издания.