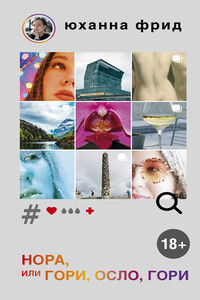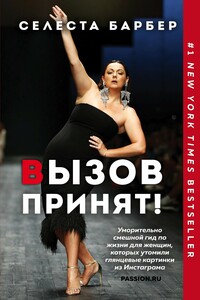Ольга давно уже кажется себе сильной, неизносимой, после того разговора с главврачом на усталость никому не жалуется, получив получку, обязательно берет слабо упирающегося Витьку за длинную тонкую руку и ведет в магазин, всем по дороге рассказывая, какой несуразный, худющий и долгий, как жердь, у нее парень, простой еды не ест, пойти хоть пряников ему купить. На нее давно никто не сердится и как соперницу всерьез не принимает, дурочкой не считают, но чудачкой. У Ольги особенная на все Село мосластая и почему-то синей окраски корова с небольшим тугим выменем, а молока дает больше всех, потому что молоко у доброй коровы не в вымени, а в жилах. Еще она пускает в каждую зиму синего же быка-подростка, держит трех овечек и десятка два кур, картошки садит по двадцать соток, отправляет их в город старшим детям мешков по пятнадцать. Старшие дети ее скромны и уважительны, а Витька учится на одни пятерки. У одного из сельских интеллигентов она купила по дешевке рассохшийся письменный стол и вечерами допоздна держит за ним Витьку. Сама суетится по хозяйству, временами заглядывая сыну через плечо, в меру покрикивая, чтоб уроки учил, а не книжки читал. Витука книжку подкладывает под учебник и читает.
В ушах все бренчит, шевелится и брякает, но Ольга, турнув Витьку домой за уроки, идет в контору. Поднимается по скрипучей деревянной лестнице, в бухгалтерию входит, осторожно постучав. До получки еще десять дней, пятерку на Витьку дают раз в месяц, двадцать семь рублей да пять вместе никогда не собираются. После рождения Витьки она стала другой, хоть никому не признается в этом, сама уж не помнит, что красота и гонор у нее тоже когда-то были, говорит со всеми чаще всего вкрадчиво, срывается редко, как с Мурой, когда уж совсем доведут. Она мнется у порога в бухгалтерии, готовая улыбнуться каждому, кто первый поднимет голову. Она знает, кто это будет, старый и толстый, трудно дышащий Яков Иосифович, которого все тоже не любят и называют скупердяем.
— Что, Орлова, не хватило опять? — Крупное морщинистое лицо главного бухгалтера встает над бумагами, суровое и красное, а глаза и голос добрые.
— Да девкам надо бы посылку отправить. — Ольга улыбается и переминается с ноги на ногу. — Письмо прислали. Дак и денег бы положить, хоть маленько.
— До получки-то сколько у нас? — соображает бухгалтер.
— Десять дней, — тут же откликается Ольга.
— Да ведь ты уж брала пятерку.
— Врала. Да велика ли она, Яков Иосифович.
— Ну, выпишу еще десяточку. — Бухгалтер машет пухлой рукой. — Что получать-то потом будешь?
Последнего вопроса Ольга не слышит, бежит по темной широкой улице вприпрыжку, ветер свистит в ушах, дырявит стылую шаль. Не запыхавшись, она заскакивает в магазин, покупает двести граммов подушечек для Витьки.
Витька в стайке брякает подойником, в темноте на кормушку наткнулся. Шуганув его в избу, Ольга садится под свою синюю корову. В стайке можно отдохнуть, внешний мир тонет в ее запахах, запахи мягки и свежи, на улице потеплело. Начинается новый звук, живая сладкая струя, невидимая, ударяется в пухлую молочную пену. Корова спокойная, подоив ее и отставив заполненный до трети подойник, Ольга сидит, ненадолго разогнув спину…
…— Кого надо? — прошептала маленькая старуха, выдвинув голову из наклоненных вперед плеч, вглядываясь не в меня и темноту зияющего за мной подъезда, а вокруг себя.
— Это у вас стирают? — тоже почему то шепотом спросила я и вздрогнула, шепот получился неожиданно громким.
— Че? — громко уже спросила старуха.
Мягкое шлепанье босых ног по линолеуму из глубины квартиры.
— Достукалась! — В свете прихожей возникла молодая женщина с расплывшимся от сна лицом. — Я доску твою сейчас же в мусоропровод! — И так же нелепо исчезла.
— Рубашку, Вите. — Старуха, поворачиваясь своим скособоченным телом, беспомощно оглядывалась, крепко сцепив на груди мокрые руки, козонки пальцев поделены надвое, образуют слабо стянутые, готовые вот-вот распасться узлы. — Он эту рубашку больше всех любит…
Стиральная доска в мусоропровод не войдет, брела я вниз по бетонной лестнице, в самый низ, до первого этажа. Прямо у подъезда, через светлую в ночи двухметровую ленту асфальта, чернела жирная земля газона. Я села на корточки и коснулась земли рукой. Земля была холодной, не успела еще отойти от зимы.
Уже потом всеми признанный Историк Села рассказал мне, что никакой Черной Избы не было, женщины стирали белье в теплой сухой бане, рождение незаконных детей укоренилось от разврата современности, вывернутое нутро земли для проложения колонок послужило прогрессу, а подтверждением всему может служить только ходящий теперь в стариках с рыже-седой бородой Коля-дурачок.
Старуха на девятом или, через этаж, на десятом ночами больше не стирала. Можно было спокойно спать.