Лавров - [3]
Не склонный к религиозной набожности, Лавр Степанович тем не менее долгом своим считал строго придерживаться обычаев православия. Священники приглашались в дом во всех подобающих случаях (правда, угощались отдельно от барской семьи), а в сельской церкви по приказу хозяина был построен новый притвор, изукрашенный иконами святых, имена которых были даны домочадцам.
Внутренний мир Лавра Степановича не был лишен и некоторых устремлений к просвещенности. В доме — множество хороших картин и скульптур, богатейшая библиотека, а в пей, среди прочего — французские вольнодумцы XVIII века, Вольтер, Энциклопедия Дидро и д’Аламбера. Литературные новинки из-за границы выписывались. Детей сызмальства приохочивали к чтению. Детей же было трое — два сына, Михаил и Петр, и дочь Екатерина.
Петр — младшенький. В 1824 году при проезде в южную Россию имение Лавровых посетил император Александр (ничего удивительного: Лавр Степанович был личным другом всемогущего Аракчеева) и, как гласит семейное предание, приласкал годовалого малыша (знал бы царь, кто из него вырастет!). Осчастливленный отец в честь этого приснопамятного события воздвиг в саду колонну с чугунным бюстом обожаемого монарха, вскоре приказавшего долго жить…
Очень рано — лет в пять-шесть — Петр выучился читать, по-русски и по-французски одновременно. Книги стали главной его отрадой и страстью. На всю жизнь.
Крутой нрав отца отталкивал от него чувствительного мальчика. Брату и сестре с Петром было неинтересно: Катя старше его на одиннадцать лет, Михаил — на шесть. Только у матери и находил Петруша ласку, понимание и слова утешения.
Елизавета Карловна (урожденная Гандвиг) происходила из обрусевшего шведского рода; отец ее служил по горному ведомству, управлял одним из металлоделательных заводов в Сибири. Женщина образованная и добрая, Елизавета Карловна учила мальчика немецкому языку, да и вообще скрашивала сколько могла довольно однообразное, без игр и потех, существование своего меньшого. Но много ли могла она?! Разве что природной мягкости характера потрафить…
Так и рос, воспитываемый как девочка, рыжеволосый и чуть картавящий барчонок: беспрекословное послушание, одиночество (из сада — никуда!) — и книги, книги, книги. Тут его вкус во многом направлял приглашенный в дом учитель французского и немецкого Берже — давал заучивать наизусть Шиллера, Гюго, Вольтера… На всю жизнь запомнил Петр шиллеровскую «Песнь о колоколе»…
Исполнилось Петру четырнадцать — и отвез его отец в петербургское Артиллерийское училище: отставной полковник артиллерии желал продолжения семейной традиции.
Училище было основано в 1820 году по всеподданнейшему докладу великого князя Михаила Павловича личным повелением Александра I. «Образование искусных артиллерийских офицеров» — такая ставилась цель. Принимались в него только сыновья потомственных дворян. Ко времени поступления Петра Лаврова училище — двухэтажное здание, вытянувшееся вдоль берега Большой Невы на Выборгской стороне, — сделало уже тринадцать выпусков (в 1833 году его окончил Михаил Бакунин — будущий идеолог анархизма, с идеями которого Лаврову придется немало повоевать).
Выдали Петру мундир темно-зеленого сукна с красной от борта до фалд выпушкой и красными же гладкими погонами, кивер, серую шинель, белую лосиную портупею, ранец, саперный ноя? и все остальное, что положено, — и началась у него совсем иная, чем прежде, жизнь. Казарменная.
В шесть часов били зорю, в семь — после молитвы — завтрак, тут же в каморах: кусок черного хлеба да стакан сбитня. Потом свободных от караула усаживали за повторение уроков. С 8 до 12 — занятия в классах, в час — обед, опять повторение уроков, а с 2 до 5 — вновь занятия в классах. Следующие два часа согласно распорядку воспитанники должны были находиться в каморах, где они «остаются спокойными и повторяют уроки каждый по произволу». В семь снова сбор — к ужинному столу, в восемь — вечерняя зоря. Лишь в среду и субботу пополуденные занятия заменялись — строем, фехтованием и все тем же повторением уроков. И так четыре года: подготовительный и три юнкерских класса.
Муштра есть муштра: времена-то николаевские. Но тут еще и другая беда: очень уж товарищи донимали. Дразнили Петра всячески — и за то, что картавит, и за то, что рыж и неловок, а в особенности за то, что зубрила. Над наивностью и откровенностью его прямо-таки потешались, думая, что он оригинальничает либо просто не вполне нормален. Очень одиноким, какой-то белой вороной чувствовал себя Петр все эти училищные годы. Только толстой тетрадке — дневнику — и доверялся.
1840 год, 13 августа: «Мне скоро 18 лет, а много ли приятных дней есть в моем прошедшем? Есть ли хоть один из них, которого воспоминание принесло бы радость, удовольствие, упоение в душу мою… Нет, мое прошлое пусто, мрачно, безутешно… Моя жизнь в будущем…»
12 сентября: «Они смеялись, и я ясно читал в их смехе, что я прикидываюсь, что я хочу оригинальничать… Пускай они думают, что хотят… Я запру свою душу четырьмя замками от испытующих взглядов, чтоб ни друг, ни недруг не знал, какая дума порой волнует мой рассудок…»
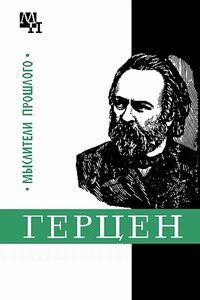
В книге дается анализ философских воззрений великого русского революционера-демократа А. И. Герцена, показывается его отношение к гегелевской диалектике, эволюция его идей. Автор раскрывает своеобразие материализма Герцена, мыслителя, который, как подчеркивал В. И. Ленин, вплотную подошел к диалектическому материализму.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
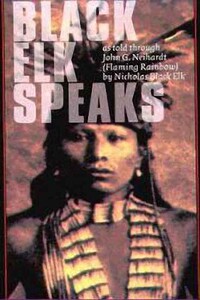
Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.
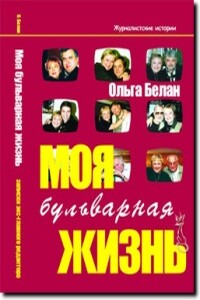
Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.