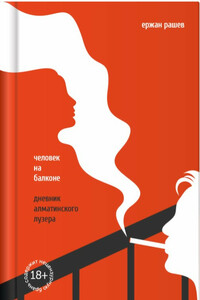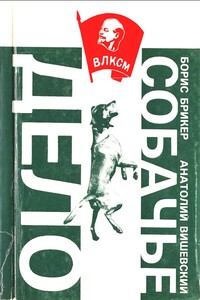), чего более чем хватало, чтобы не воспринимать их всерьез; полагаю, они точно так же не воспринимали всерьез меня. В черепичной Женеве (спасибо тебе, чужой город, построенный неизвестными людьми) мне было прекрасно от всех далеко, и вплоть до самого отлета я отказывался признавать, что мне придется покинуть это место. В самом конце ноября, когда дни потемнели и улицы облепил мокрый снег, я выбирал для своих небольшие cadeaux в пустых полуденных магазинах и слышал, как тихо оползает укрывавшая меня насыпь, за которой вырастает обратно пепельная Москва с ненужными мне людьми; хватаясь за последнее, я за два или три дня до самолета поехал в Берн, где еще не успел побывать, и там поднялся на стометровую колокольню собора, заранее зная, что вид будет плох: так и вышло: под сырым металлическим солнцем зимы горбатые бернские Альпы казались покрытыми обыкновенной плодовой гнилью: черной на склонах и мертво светящейся белой поверху; косое свечение это резало глаза и остальное лицо, и я глядел туда, все более ожесточаясь, потому что мне было нужно именно это: почувствовать себя здесь более лишним и чужим, чем там, куда мне предстоит вернуться. За две недели до Берна мне будто бы помогла с этим тонкая черная кошка из Беллинцоны, кантон Тичино: она долго ласкалась ко мне возле ближнего castello, уже поздним вечером, а потом без заметных причин огрела когтями по руке и тотчас провалилась во тьму; это было обидно, и я пришел в хостел растерянным: в Тичино я ощущал себя именно что безъязыким (дальше grazie и buongiorno я не знаю по-итальянски до сих пор), и кошка была единственным существом, с которым я оказался способен вступить в контакт, что закончился так бесславно; но этой обиды я не искал, а тогда, на колокольне, именно что старался ощутить эти горы прямо враждебными мне, выдворяющими меня вон, и это, в общем, легко удалось. Потом в очередном пустом магазине я почти на автомате купил себе шерстяной шарф, который ношу и теперь: это был, очевидно, совсем детский прощальный маневр, совершенный уже после явного разрыва: так мы с Ю. через полтора года обменивались вещами через общего друга. Места, люди, привязанности должны успеть исчерпать себя перед тем, как прекратиться: иногда это слишком затягивается, но все же; баба Маша из маминого подъезда показала, как это делают: родившись в двадцать девятом, она дотянула до двадцатого и все последние годы, живя без никого, по одной избавлялась от человеческих оболочек: клеветала на приезжавших два раза в неделю родных, одичало ругалась с соседями и всеми, кто попадался под руку в подъезде, путала день и ночь и в пять утра являлась к маме в одних кальсонах, чтобы попросить поменять батарейки в тонометре; через день вызывала то скорую, то полицейских; по ночам ее телевизор работал так, что снизу приходили выкрутить пробки: я хочу сказать, что перед тем, как совсем ненадолго уже слечь и угаснуть окончательно, она, как клубок, размотала свой рассудок, износила себя до конца, и в этом мне видятся честность и неподдельность, которые пусть тоже не были ее выбором, но все же случились, сбылись и заслуживают сочувствия, а может, и зависти: баба Маша ушла, истощив и себя, и всех, кто ее знал, так, что никто уже ничего не хотел, кроме того, чтобы все это кончилось. Когда я понимаю, что перестал ждать сочувствия от дружащей с телевизором мамы, я догадываюсь, что так и происходит пробное касание смерти: мама всегда была вместилищем любви, и вот это вместилище как будто опустевает или, наоборот, заполняется чем-то глухим, как камень: я рассказываю о каких-то ужасных вещах и чувствую, что внутри нее не происходит никакого движения, она будто бы превращается в древнего идола, но в этом, если не распаляться, тоже слышен слабый, но неумолкающий шепот заботы: почти тот же самый, что слышен теперь в том промежутке, который мы с тобой прожили порознь в ноль третьем – четвертом годах. И мне меньше всего хочется разбираться с тем, что я не могу атрибуировать эту заботу как вашу, но остаюсь за нее благодарен просто никому; точно так же, как не хочу думать, вспоминал ли ты обо мне вообще все те месяцы: если бы я всерьез допустил, что о тебе было все решено, когда тебе не исполнилось и шестнадцати, а для меня было устроено нечто вроде тренировочного периода, мне пришлось бы разбираться и с тем, для чего меня так опекали, был ли я как-то взвешен и определен и что будет, если я отклонюсь от своего определения, и не отклонился ли я от него, скажем, в десятом еще году. И да: если все было решено так давно и на тебе была нанесена некая печать, как могло так случиться, что ты ни о чем не догадывался: летом в наших дальних комнатах всегда было можно, прислушавшись днем, различить в самых стенах придушенную возню, мелкие песчаные трески, из которых ты был, я думаю, способен составить хотя бы подобие своей дорожной карты (потому что это у тебя, а не у меня был мистик-дед с «Розой Мира» и «Тайной доктриной» на полке, а с меня в этом плане вряд ли уместен какой-либо спрос: я был внук коммуниста и сын коммуниста, и даже о настигавшем Иисусе мне было не с кем доверительно поговорить, кроме разве что аккуратно ходящей в церковь тети, но я знал, что в ее понимании эта история оказалась бы какой-то больной, и она вряд ли могла бы что-либо мне подсказать). Но еще хуже предполагать, что ты как раз догадывался или знал что-то наверняка, и когда я в сентябре ноль четвертого без слов припал к тебе на остановке, ты выбирал между тем, чтобы отвергнуть меня мне же во благо, и тем, чтобы помочь мне сейчас же, тем самым ставя меня под отложенную на три года угрозу: то, в пользу чего ты склонился без заметных тогда колебаний, но опять же, как я могу утверждать это. И все же вероятней всего, хотя и прискорбней всего, что у тебя было вполне определенное знание о том, что тебе предстоит, но знание это оказалось ложным: те, от кого оно шло, обвели тебя вокруг пальца; они дали тебе некоторые свойства, достаточные, чтобы озадачить приятелей (вспомним снова, как ты управлял забулдыгами на вечерней просеке; странно было и то, что ты не упал, обескровев, когда шел в четыре утра через весь город в травмпункт с распоротой на Ковершах, где вы пили, рукой), и солгали о том, что ты отдашь взамен; я замечательно помню твою недоверчивость, включавшуюся и когда все казалось прозрачно, но здесь без большого труда представляю, как она отказалась вмешаться, и почти вижу твое лицо в ту минуту, когда договор был оформлен.