Ладушкин и Кронос - [3]
Если бы в ту минуту кто-нибудь спросил у Ладушкина, какой запас времени нужен ему и для чего, он, вероятно, стушевался бы. Чего, собственно, трепыхается? Но, подумав, ответил бы, что надо все-таки закончить институт, да и есть о чем поведать людям. Но главное — хочется жить. Просто жить. И Галисветова жалко…
В честь своего тридцатилетия Ладушкин подарил себе электронные часы. Вместо спокойного кругового циферблата, по которому стрелка движется с достоинством, почти незаметно, на них истерически вспыхивали цифры, выстреливая очередью секунд и минут. Часы были напоминанием о том, что он, Ладушкин, не Кащей Бессмертный, и что отныне жизнь его круто изменилась.
На первый взгляд все было по-прежнему. Люди ходили на работу, воспитывали детей, развлекались и строили планы на много лет вперед. И все же солнце над головой будто подернулось дымкой, и в этой дымке все предметы, лица, события несколько преобразились. Нет, никто не бегал в панике по улицам, не гудели сирены тревоги, не суетились больше обычного автомобили. Но что-то сдвинулось, стало иным, хотя мало кто всерьез верил, что через полгода планета может развалиться на куски или сорваться с орбиты, стать глыбой мертвого льда, блуждающего в черном космосе.
Загипнотизированный радиоспокойствием грозного сообщения, мир по инерции продолжал жить, как обычно, помня, что ученые уже не раз ошибались в прогнозах. Но подспудная мысль о возможности плохого исхода незаметно отравляла жизнь, придавая ей нехорошую остроту.
В троллейбусах обсуждали планетную обстановку:
— И чего это комету занесло сюда? Места в небе мало, что ли?
— Ясное дело, Виолетта. Они, бабы, все такие.
— Причем тут бабы? Пожилой человек, а юмор деревянный.
— Да, не ко времени все это: сына женила, огородный участок приобрела, самый раз жить да жить…
— Если комета — сгусток газа, то мы пройдем сквозь него, и все. Дышим ведь уличным смогом, не помираем.
— Тоже сравнили. Это другой газ.
— Мужики теперь опять запьют.
— Моя дочка, первоклассница, знаете, что говорит? Пусть, говорит, страны всего мира выведут на орбиту Земли все свои ракеты и поставят противокометный заслон. Она у меня такая умница, только читать не любит.
— Если вдуматься в ситуацию, мороз по коже.
— Меньше думайте, больше делайте.
— И думать иногда полезно.
— А вы не слыхали, в цирке кто-то из зверей заговорил. То ли тигр, то ли медведь. И будто так громко и долго ревел: «Конец! Конец!»
— Не распускайте дурные слухи и не паникуйте, а то сообщу куда надо.
— А вы не тычьте мне в лицо свой портфель.
— Подумаешь, комета… И не такое пережили.
— Кому как, а мне по ночам рыба жареная снится. Жареная — это плохо. Вы выходите на следующей?
— Молодой человек, Виолетта еще далеко, а вы уже попираете нормы поведения — уступите место старой женщине.
— Извините, не заметил.
— Они, молодые, теперь все рассеянные.
— У нас в подъезде подростки кошку повесили.
— Пройдите вперед, не толпитесь посередине!
— Граждане, пожалуйста, не суетитесь, — громко, на весь троллейбус, сказал Ладушкин. — Все будет в порядке.
На него обернулись. Стоит эдакий невысокий, в плаще и кепчонке, улыбается.
— Вы что, оптимист? — насмешливо спросил мужчина с боксерской челюстью.
— Я — хронофил, — ответил Ладушкин.
Отныне человечество делилось им на хроноглотов, хронофилов и пустохронов. К хроноглотам он относил тех, кто бесплодно пожирал драгоценное время других и свое. Хронофилы знали цену каждой минуте и с толком использовали ее. Пустохронами Ладушкин считал тех, кто не производил ни материальных, ни духовных ценностей. Поначалу он причислял к ним и детей. Но потом уверенно вычеркнул их из этой категории, увидев, как расцвело лицо мамаши в сквере, когда ее годовалое чадо нюхало цветочки на клумбе. «Дети — производители духовных богатств, но и самые крупные хроноглоты», — отметил он в блокноте, куда обычно записывал меткие словечки кабэшного острослова Вени Соркина.
Хроноглоты были наиболее многочисленной группой. Они встречались где угодно, в любом учреждении, находили человека в его доме и даже в постели. Минуты, часы для них не существовали, они плевали на время, превращая его в слова, не несущие никакой информации. Им просто некуда было деть время, не на что потратить, и заодно со своим они приканчивали и чужое, нимало не сожалея об этом. Случались метаморфозы: хронофил мог превратиться в хроноглота, а пустохрон стать хронофилом. Самым великим хроноглотом, но одновременно и хронофилом оказался телевизор, и Ладушкин был с ним начеку. В театрах, кинозалах садился скраю и при первом же признаке скуки вставал и уходил.
Хронофилов можно было распознать по тому, как часто они поглядывают на часы, хотя многие, как и Ладушкин, могли ощущать время и без них. По своим нравственным качествам они были разными. Зато пустохроны не отличались ни нравственностью, ни умом: заливали время спиртным, убивали косточками домино и бессмысленными посиделками с пустым трепом. Ладушкин избегал их, как и хроноглотов. Но даже хронофилы не умели по-настоящему ценить и использовать время, и он с грустью размышлял о том, что, дай человеку хоть тысячу лет жизни, ему и этого будет мало, потому что не научился, не знает, как с полнотой прожить отпущенный ему природой срок.

В книгу украинской писательницы вошли три повести, написанные в жанре социально-психологической фантастики. Внимание автора направлено на земной духовный космос. Обыденная реальность замешивается на фантастике не с развлекательной целью и не с замыслом чем-то изумить читателя, а для того, чтобы заново взглянуть на вечные ценности и проблемы нравственности.

В книгу украинской писательницы вошли три повести, написанные в жанре социально-психологической фантастики. Внимание автора направлено на земной духовный космос. Обыденная реальность замешивается на фантастике не с развлекательной целью и не с замыслом чем-то изумить читателя, а для того, чтобы заново взглянуть на вечные ценности и проблемы нравственности.
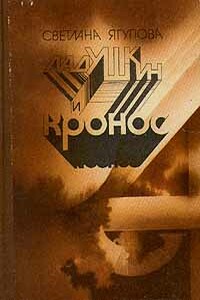
Ответственность перед природой и обществом, необходимость единения людей в самых необычных условиях — тема повести «В лифте».

Без навязчивой морали автор касается проблем духовного мира человека и сохранения окружающей среды в повести «Берегиня».

Сказка и фантастика причудливо переплелись в этой повести о близнецах, смешной тетушке Кнэп, клоуне Пипле и электрике Ланьо, об их друзьях и врагах, о том, как было «открыто» море, и еще о многом таком, чего, казалось бы, нет и быть не может, как нет на земле страны Сондарии, где растут пластмассовые деревья и светит равнодушное тусклое солнце. Но раскрутите-ка глобус. Вот они государства, где людей еще сортируют если не по цвету глаз, то по цвету кожи, где жгут на кострах неугодные книги и смелую мысль заточают в тюрьмы.
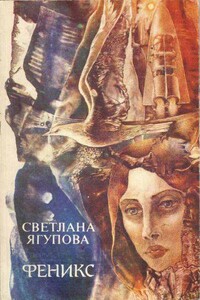
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
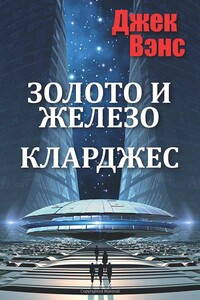
В данную книгу вошли два ранних романа Джека Вэнса — «Золото и железо. (Рабы Клау)» (1952) и «Кларджес. (Жить вечно)» (1956).Золото и железо (Рабы Клау):Рой Барч, первый землянин, захваченный рабовладельцами-клау и отправленный ими на планету Магарак, должен был решить задачу сверхчеловеческой сложности — найти способ вернуться на Землю и предупредить людей о космической угрозе. Иначе все население его родной планеты могло вскоре оказаться в рабстве у инопланетян.Кларджес (Жить вечно):Гэйвин Кудеяр тщательно скрывал свое прошлое.
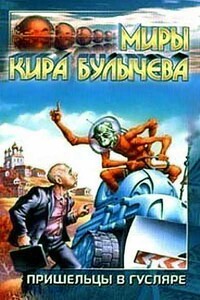
Где-то далеко в космосе умирают маленькие, пушистые крупики, им надо помочь. И вот Корнелий Удалов в дождь и слякоть отправляется…, нет не в космос, а на окраину Великого Гусляра — именно там находится спасение крупиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вот так бывает, подписал договор и оказался далеко от дома. Теперь задача вернуться, но это не просто.

Простите, что без предупреждения, но у меня есть к вам один разговор. Я, Тогаши Юта, в средней школе страдал синдромом восьмиклассника. Синдром восьмиклассника, настигающий людей, находящихся в переходном возрасте, не затрагивает ни тело, ни ощущения человека. Заболевание это, скорее, надуманное. Из-за него люди начинают видеть вокруг себя зло, даже находясь в окружении других людей, но к юношескому бунтарству он не имеет никакого отношения. Например, люди могут быть такого высокого мнения о себе, что им начинает казаться, что они обладают уникальными, загадочными способностями.
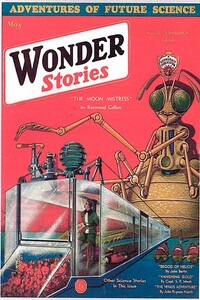
Когда исследователи прилетели на Венеру, они думали, что оказались в диком, первобытном мире. Но все оказалось не совсем так....