Л. Н. Толстой - [3]
Пред Толстым во всю его долгую жизнь стоял один чисто русский вопрос: «что делать?» как праведно жить? Отсюда проистекает та сторона его писательской деятельности, в которой выразилось его нравственное служение и религиозное призвание – быть голосом общественной совести. За последние десятилетия не было выдающегося события русской жизни, на которое он, худо-ли, хорошо-ли, не отозвался бы словом или делом. Однако не всегда достаточно взвешивают, чего стоят эти отклики тому сердцу, из которого они вырываются. Но и в них большею частью тоже отражалась двойственность и противоречивость стихий, боровшихся в самом Толстом, иногда они более будоражили и волновали совесть, нежели ее проясняли. Бичующие слова его часто бывали мучительны для совести, но ведь об известных вещах и надо мучиться, и правда часто бывает мучительна. И в этой власти будить засыпающую совесть заключается то, что объединяет в положительном отношении к Толстому многих людей разных вер и разных настроений.
Однако преклонение пред мощным обличителем неправды идет у многих и дальше. За последнее время входит в обычай сопоставлять Толстого с основателями великих исторических религий. Подобные сопоставления являются глубоко ошибочными, это даже не преувеличение, а просто ложь. Толстой есть религиозный искатель, который всецело поглощен интересами религии и заражает ими всех, попадающих в сферу его влияния. Но ему самому дано было знать тревогу исканий гораздо больше, нежели покой и радость религиозной жизни, тихого роста души на недвижной основе. Он не пророк и не святой, он только великий искатель, которому свойственно однако все человеческое и «слишком человеческое», с исключительными подъемами, но и с очевидными слабостями и ограниченностью. В его религиозном учении, т.-е. в том, что именно называется «толстовством», из двух противоречивых стихий его души, религиозной и нигилистической, безусловно преобладает вторая, разрушительная. Для него так и остается недоступна как мистическая, так и метафизическая сторона христианства, которое он понимает преимущественно как религиозно-окрашенную этику. В его богословских сочинениях поражает, на-ряду с крайней рассудочностью, хотя и при отсутствии подлинной научности, какой-то религиозный эклектизм, механическое соединение элементов разных религий, и как будто вовсе отсутствует восприятие личности Христа в её единственности; отсюда и отрицание Его богочеловечества. Потому считать религию Толстого христианской было бы глубоко ошибочно (как это с резкостью и определенностью было указано, между прочим, в предсмертном сочинении Вл. Соловьева «Три разговора»). Именно это отношение Толстого к христианству вызывало и вызывает тяжелую религиозную распрю около его имени. Отъединение Толстого от церковного христианства в основных вопросах веры есть, конечно, глубокая скорбь для всех искренних сынов Церкви, быть может, кара для них и предостережение…
Величие религиозной личности Толстого, но вместе и её противоречивость и незавершенность, именно и выражается в том, что сам он никогда не мог успокоиться и установиться на своем учении, но постоянно выходил за его узкие рамки. В известном смысле можно сказать, что сам Толстой никогда не был и не мог быть только толстовцем, никогда не вмещался в толстовстве, в которое хотели бы загнать Толстого окружавшие его прямолинейные фанатики его же доктрины. Оно было для него временной формой успокоения, камнем под изголовьем, условным символом веры, сам же он продолжал жить во всю ширь своей личности и со всеми её противоречиями, как Толстой, а не как толстовец. И ведь никогда же не надо забывать, что в нем, кроме догматического вероучителя, жил дивный прозорливец искусства, томился огненный дух, вечно мятущийся, вечно трепетный и вопрошающий. И эту наиболее драгоценную черту души Толстого, эту неумолчную тревогу исканий с ослепительной яркостью символизировали последние его дни. Покинув родное гнездо, в самую, быть может, трудную, а вместе и роковую минуту своей жизни, снова он устремляется туда, где бывал двадцать лет тому назад, еще в полном разгаре духовного своего кризиса, в историческую Оптину пустынь, собирается посещать старца. Чего он ищет накануне смерти, о чем он теперь вопрошает? Эту тайну своей души он не открыл миру и унес в могилу. Но то, что его потянуло именно в Оптину, кажется так неожиданно от Толстого с его непримиримостью ко всему церковному. И разве толстовцу нужна беседа со старцем, разве он подумает о ней? Нет, но это сделает Толстой, этот умирающий Лев, который в глубине души своей никогда не успокаивается на своем собственном учении, всегда мучается горней мукой в стремлении к Богу. Никому неведомо, что зарождалось в душе Толстого в эти последние дни. Но получается впечатление, как будто опять начиналась в нем новая, трудная душевная работа, и, возможно, еще раз ставились под вопрос старые верования. Об этом возможны только догадки и предположения, и в этой интимнейшей стороне своей душа его осталась закрыта даже для самых близких. И в этой непонятости и неразгаданности, в этом роковом одиночестве – удел гения и крест Толстого. Он был всю жизнь окружен семьей, пламенными поклонниками, друзьями. Но могла ли даже им открыться вполне душа Толстого? И когда подлинный лик её закрывался личиной прямолинейного догматического рационалиста, ее принимали за то, что скрывалось за ней. Чувство глубокой тайны должна внушать жизнь великого мятущегося духа. За последние годы Толстой сделался предметом особенного поклонения «всего мира», и, конечно, нашей интеллигенции, что так выпукло проявилось при праздновании его 80-летия. Но и тогда, и теперь много ли среди этих почитателей найдется таких, кому действительно близок его внутренний мир, святая святых души его, его религия? Многим ли из них она даже интересна? И, конечно, от того, пред кем распахивались глубины человеческого сердца, не могло утаиться то, что очевидно всякому непредубежденному наблюдателю. И это впечатление – одиночества в человеческой толпе и глубокой от него грусти – только усилится, если подумать еще об интимной обстановке жизни Толстого. Он не изнемог до конца, и в темном, но верном предчувствии надвигающейся смерти он снова отправился в путь, уже последний путь. И эта смерть в пути символически озарила сокровенную жизнь его духа с его неутоленным алканием. Не о таковых ли сказано примиряющее слово в Благовестии:
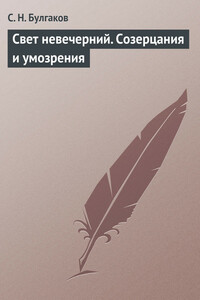
Книга выдающегося русского мыслителя и богослова Сергея Булгакова (1871–1944) – самая значительная его философская работа, представляющая собой, по словам автора, род духовной автобиографии или исповеди. «Как возможна религия», «вера и чувство», «религия и мораль», «природа мифа», «мировая душа», «природа зла», «пол в человеке», «грехопадение», «спасение падшего человека», «власть и теократия», «общественность и церковность», «конец истории» – таковы лишь некоторые из многочисленных вопросов, которые С. Булгаков рассматривает в своей книге, давно ставшей библиографической редкостью.
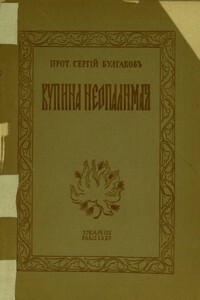
КУПИНА НЕОПАЛИМАЯОпыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании БогоматериПАРИЖ, 1927Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.Источник: http://odinblago.ru.

«Хотя Достоевский не написал ни одной страницы в драматической форме, тем не менее в своих больших романах по существу дела он является и великим трагиком. Это выступает с полной очевидностью при сценической постановке его романов, особенно же с такими средствами, как московского Художественного театра, который постановками „Братьев Карамазовых“ и „Бесов“ содействовал выявлению лика трагика в Достоевском. Что есть трагедия по внутреннему смыслу?…».
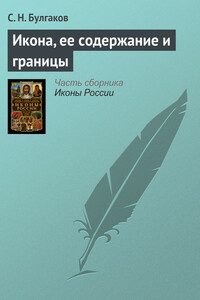
«Икона Христа изображает Его человеческий образ, в котором воображается и Его Божество. Поэтому непосредственно она есть человеческое изображение, а как таковое, она есть разновидность портрета. И потому в рассуждении об иконе следует сначала спросить себя, что вообще представляет собой человеческое изображение как картина или портрет…».
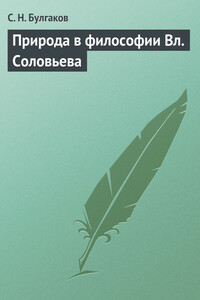
«М‹илостивые› г‹осудари›!Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше мы от них отходим. По ним мы ориентируемся в пути, они всегда остаются перед нашими глазами. Временем так же испытывается подлинное величие, как расстоянием – высота гор. Мы отошли всего на 10 лет со дня кончины Соловьева, и как изменилась уже историческая перспектива, как вырос он пред нашими глазами, какое место он начинает занимать в наших душах…».
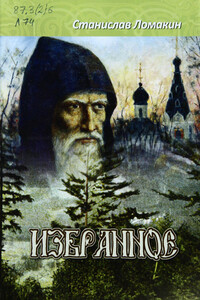
Автор благодарит за финансовую помощь в издании «Избранного» в двух томах депутатов Тюменской областной Думы Салмина А. П., Столярова В. А., генерального директора Открытого акционерного общества «Газснаб» Рябкова В. И. Второй том «Избранного» Станислава Ломакина представлен публицистическими, философскими, историческими, педагогическими статьями, опубликованными в разное время в книгах, журналах, научных сборниках. Основные мотивы публицистики – показ контраста между людьми, в период социального расслоения общества, противопоставление чистоты человеческих чувств бездушию и жестокости, где материальные интересы разрушают духовную субстанцию личности.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.
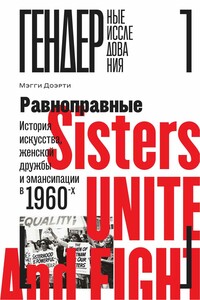
Осенью 1960 года в престижном женском колледже Рэдклифф — одной из «Семи сестер» Гарварда — открылась не имевшая аналогов в мире стипендиальная программа для… матерей. С этого момента Рэдклифф стал центром развития феминистского искусства и мысли, придав новый импульс движению за эмансипацию женщин в Америке. Книга Мэгги Доэрти рассказывает историю этого уникального проекта. В центре ее внимания — жизнь пяти стипендиаток колледжа, организовавших группу «Эквиваленты»: поэтесс Энн Секстон и Максин Кумин, писательницы Тилли Олсен, художницы Барбары Свон и скульптора Марианны Пинеды.

Вопреки сложившимся представлениям, гласность и свободная полемика в отечественной истории последних двух столетий встречаются чаще, чем публичная немота, репрессии или пропаганда. Более того, гласность и публичность не раз становились триггерами серьезных реформ сверху. В то же время оптимистические ожидания от расширения сферы открытой общественной дискуссии чаще всего не оправдывались. Справедлив ли в таком случае вывод, что ставка на гласность в России обречена на поражение? Задача авторов книги – с опорой на теорию публичной сферы и публичности (Хабермас, Арендт, Фрейзер, Хархордин, Юрчак и др.) показать, как часто и по-разному в течение 200 лет в России сочетались гласность, глухота к политической речи и репрессии.

В рамках журналистского расследования разбираемся, что произошло с Алексеем Навальным в Сибири 20–22 августа 2020 года. Потому что там началась его 18-дневная кома, там ответы на все вопросы. В книге по часам расписана хроника спасения пациента А. А. Навального в омской больнице. Назван настоящий диагноз. Приведена формула вещества, найденного на теле пациента. Проанализирован политический диагноз отравления. Представлены свидетельства лечащих врачей о том, что к концу вторых суток лечения Навальный подавал признаки выхода из комы, но ему не дали прийти в сознание в России, вывезли в Германию, где его продержали еще больше двух недель в состоянии искусственной комы.

К сожалению не всем членам декабристоведческого сообщества удается достойно переходить из административного рабства в царство научной свободы. Вступая в полемику, люди подобные О.В. Эдельман ведут себя, как римские рабы в дни сатурналий (праздник, во время которого рабам было «все дозволено»). Подменяя критику идей площадной бранью, научные холопы отождествляют борьбу «по гамбургскому счету» с боями без правил.