Кузьма Чорный. Уроки творчества - [6]
КОЛАСОВСКИЙ ПСИХОЛОГИЗМ
Принимаясь за разговор о Коласе-прозаике, об «уроках» Коласа, мы не собираемся подробно анализировать все богатство его прозаического наследства. Задача наша значительно уже: отметить то, что делает Коласа — психолога и бытописателя — предшественником и современником Кузьмы Чорного, а вместе с тем и теперешних прозаиков.
Якуб Колас со всей плеядой прозаиков дореволюционных (Ядвигин Ш., 3. Бядуля, М. Горецкий, Т. Гартный) и писателями двадцатых годов выработал весьма мощную традицию яркого живописания быта белоруса. С этого, собственно говоря, начиналась наша проза, и это была наиболее выразительная национальная краска, без которой трудно представить белорусскую прозу. Тот же Колас, а потом Горецкий, Чорный, Лыньков, Зарецкий, Головач, Самуйленок и другие углубляются все смелей и в психологию человека, открывая миру национальный характер своего народа. Но и психологической правды, глубины они (во всяком случае, большинство) достигают через точнейшее раскрытие реального быта человека.
Это было творческое развитие классических традиций.
Однако имело и имеет место и эпигонство — обязательный спутник художественных открытий. Эпигонство явилось тогда, когда реальный быт исчезал, а вместо него эксплуатировались «бытовые краски», почти «как у Коласа», «как у Чорного».
Мы имеем в виду тот период в развитии нашей литературы, когда гладкая иллюстрация тезиса некоторым казалась важней, чем «грубая реальность».
И вот тогда произошло нечто удивительное с нашей прозой. Реальный быт людей, вместо того чтобы быть основой произведения, становился лишь гарниром или мелкой солью, без которой художественное блюдо было бы уже и вовсе пресным. Этнографизм, преодоленный в тридцатые годы, как бы снова возвращается в сороковых — пятидесятых годах в произведениях М. Последовича, В. Карпова, Т. Хадкевича. В свое время этнографиэм в творчестве Ядвигина Ш., М. Горецкого, Т. Гартного, 3. Бядули, а частично и Я. Коласа был исторически обусловленным и органическим художественным элементом. В сороковые — пятидесятые же годы этнографическая приправа к схематическим иллюстративным романам и повестям становится всего лишь архаикой. Язык, быт белоруса в таких сочинениях, как «За годом год» и «Весенние ливни» В. Карпова, «Даль полевая» Т. Хадкевича и другие, воспринимаются авторами как-то со стороны, как «наборная касса» знакомых национальных атрибутов, которые должны украсить весьма условную схему жизни.
Быт начинает выполнять в некоторых произведениях роль орнамента, становится как бы формальным элементом, украшением «национальной формы», почти не связанным с судьбой реальных людей.
Обоснованное, на новом «витке», возвращение к подлинным традициям классической белорусской прозы (если иметь в виду живописание быта народа) можно видеть в лучших романах, повестях, рассказах Брыля, Мележа, Быкова, Кулаковского, Чернышевича, Лупсякова, Шамякина, Науменко, Осипенко, Стрельцова, Адамчика, Лобана, Короткевича, Чигринова, Василевич, Кудрявца, Карамазова, Жука и других.
Большая заслуга Коласа-прозаика еще и в том, что он положил (вместе с Горецким) начало и психологической прозе, прежде всего своими «полесскими повестями». Об этих произведениях написано немало специальных трудов. Мы остановимся только на отдельных гранях психологизма Коласа, где новаторство его наиболее ощутимо.
«Полесская хроника» Я. Коласа — один из первых психологических, «интеллектуальных» белорусских романов (поиски такого стиля, и очень интересные, были и у М. Горецкого). Интеллектуализм его не только в той атмосфере интеллигентских споров и размышлений, которая характеризует коласовскую трилогию, но и в самом принципе психологизма. Автор не просто констатирует и даже не просто точно определяет психологическое состояние героя,— в его произведении присутствует философское понимание человека, его места в жизни общества и в мире природы.
Наиболее тонкий психологический рисунок наблюдается в сценах, связанных с Ядвисей.
Ядвися — этот «колючий цветок Полесья» — появилась в произведениях Коласа, как бы перейдя туда из фольклора. Вместе с тем страницы повести, где присутствует Ядвися, в наибольшей степени возобновляют в нашей памяти определенные книжные традиции. Густота красок, как бы воспринятая от фольклора, соседствует органично с психологической многоплановостью высокопрофессиональной литературы.
Выходя за границы фольклорных форм существования, художественная культура народа сразу оказывается на перекрещивании всех ветров, на перекрестке мощных влияний мировой литературы. Фольклорная же традиция постепенно становится только одной из красок — как в образе Ядвиси. Сам же этот образ, как и образ Лобановича,— уже «профессиональная литература».
Лобанович — не просто интеллигент. Герой полесской хроники Коласа — личность, склонная к постоянному самоанализу, даже рефлексии, а это в белорусской литературе, тем более в прозе, до Коласа встречалось не часто.
У нас уже нет прежнего настороженного отношения к понятию психологизма. А вот самоанализ (даже как художественный прием) некоторые все еще склонны отождествлять с рефлексией, а рефлексию — с бесполезным и безвольным «интеллигентским самокопанием», как будто нет здорового самоанализа и как будто без него — самооценки и заглядывания в самого себя — человек может стать настоящим человеком Есть, конечно, и такие люди, лишенные самооценки но «героями» они могут казаться лишь до того времени, пока мы не убедились, как бездушную человеческую активность разные «фюреры» направляли и направляют против всего, что возвышает человека над животным. Человек начался не тогда, когда в драке поднялся на задние лапы, чтобы ловчее было схватить передними за горло своего врага,— человек начался только с того момента, когда понял, что он есть он, когда сам себя как бы увидел со стороны. По-философски говоря, когда материя наконец осознала, уяснила свое существование, заглянула сама себе в глаза. Когда вспыхнул, чтобы погаснуть разве только вместе с человеком, тот самый самоанализ.

Видя развал многонациональной страны, слушая нацистские вопли «своих» подонков и расистов, переживая, сопереживая с другими, Алесь Адамович вспомнил реальную историю белорусской девочки и молодого немецкого солдата — из минувшей большой войны, из времен фашистского озверения целых стран и континентов…
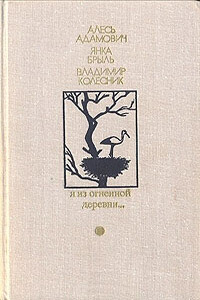
Из общего количества 9200 белорусских деревень, сожжённых гитлеровцами за годы Великой Отечественной войны, 4885 было уничтожено карателями. Полностью, со всеми жителями, убито 627 деревень, с частью населения — 4258.Осуществлялся расистский замысел истребления славянских народов — «Генеральный план „Ост“». «Если у меня спросят, — вещал фюрер фашистских каннибалов, — что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц».Более 370 тысяч активных партизан, объединенных в 1255 отрядов, 70 тысяч подпольщиков — таков был ответ белорусского народа на расчеты «теоретиков» и «практиков» фашизма, ответ на то, что белорусы, мол, «наиболее безобидные» из всех славян… Полумиллионную армию фашистских убийц поглотила гневная земля Советской Белоруссии.
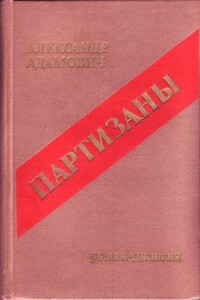
«…А тут германец этот. Старик столько перемен всяких видел, что и новую беду не считал непоправимой. Ну пришел немец, побудет, а потом его выгонят. Так всегда было. На это русская армия есть. Но молодым не терпится. Старик мало видит, но много понимает. Не хотят старику говорить, ну и ладно. Но ему молодых жалко. Ему уж все равно, а молодым бы жить да жить, когда вся эта каша перекипит. А теперь вот им надо в лес бежать, спасаться. А какое там спасение? На муки, на смерть идут.Навстречу идет Владик, фельдшер. Он тоже молодой, ихний.– Куда это вы, дедушка?Полнясь жалостью ко внукам, страхом за них, с тоской думая о неуютном морозном лесе, старик проговорил в отчаянии:– Ды гэта ж мы, Владичек, у партизаны идем…».

В книгу Алеся Адамовича вошли два произведения — «Хатынская повесть» и «Каратели», написанные на документальном материале. «Каратели» — художественно-публицистическое повествование о звериной сущности философии фашизма. В центре событий — кровавые действия батальона гитлеровского карателя Дерливангера на территории временно оккупированной Белоруссии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рецензия входит в ряд полемических выступлений Белинского в борьбе вокруг литературного наследия Лермонтова. Основным объектом критики являются здесь отзывы о Лермонтове О. И. Сенковского, который в «Библиотеке для чтения» неоднократно пытался принизить значение творчества Лермонтова и дискредитировать суждения о нем «Отечественных записок». Продолжением этой борьбы в статье «Русская литература в 1844 году» явилось высмеивание нового отзыва Сенковского, рецензии его на ч. IV «Стихотворений М. Лермонтова».

«О «Сельском чтении» нечего больше сказать, как только, что его первая книжка выходит уже четвертым изданием и что до сих пор напечатано семнадцать тысяч. Это теперь классическая книга для чтения простолюдинам. Странно только, что по примеру ее вышло много книг в этом роде, и не было ни одной, которая бы не была положительно дурна и нелепа…».

«Вот роман, единодушно препрославленный и превознесенный всеми нашими журналами, как будто бы это было величайшее художественное произведение, вторая «Илиада», второй «Фауст», нечто равное драмам Шекспира и романам Вальтера Скотта и Купера… С жадностию взялись мы за него и через великую силу успели добраться до отрадного слова «конец»…».

«…основная идея и цель комедии г. Загоскина нам очень нравится. Честь и слава художнику, который делает такое благородное употребление из своих дарований; честь и слава художнику, который употребляет свой высокий, данный ему богом талант на осмеяние невежества и эгоизма, на исправление общества! Но еще более ему чести и славы, если эта благородная цель гармонирует с направлением его таланта, если она дружна с его вдохновением, если она есть следствие его привычных дум… только под этим условием невежество устыдится своего изображения; в противном же случае оно не узнает себя в нем и будет над ним же издеваться!..».

«…Всем, и читающим «Репертуар» и не читающим его, известно уже из одной программы этого странного, не литературного издания, что в нем печатаются только водвили, игранные на театрах обеих наших столиц, но ни особо и ни в каком повременном издании не напечатанные. Обязанные читать все, что ни печатается, даже «Репертуар русского театра», издаваемый г. Песоцким, мы развернули его, чтобы увидеть, какой новый водвиль написал г. Коровкин или какую новую драму «сочинил» г. Полевой, – и что же? – представьте себе наше изумление…».

«Имя Борнса досел? было неизв?стно въ нашей Литтератур?. Г. Козловъ первый знакомитъ Русскую публику съ симъ зам?чательнымъ поэтомъ. Прежде нежели скажемъ свое мн?ніе о семъ новомъ перевод? нашего П?вца, постараемся познакомить читателей нашихъ съ сельскимъ Поэтомъ Шотландіи, однимъ изъ т?хъ феноменовъ, которыхъ явленіе можно уподобишь молніи на вершинахъ пустынныхъ горъ…».
