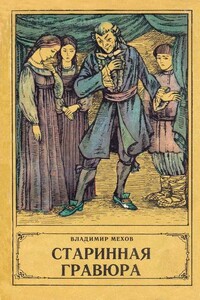Куземка Дубонос — царев комедиант - [2]
В пояс Мордасову поклонился, на двери рукой показал — входите, мол, гости дорогие, не гнушайтесь домом. Да Мордасов — словно и не бывал в этом доме никогда, не пробовал Якубовой браги, не шил тут за «бог заплатит» свои ферязи.
— Отрока твоего, Дубонос, надобно нам видеть.
Насторожился отец Куземки, в глаза дворянину тревожно глянул:
— Это с чего же — неужто натворил что?
Хохочет Мордасов, довольный, на кукуйца оглядывается — потеху, мол, немчина, видал? Тот с улыбочкой кивает, басурман, — дикари, дескать, чему же удивляться.
— В съезжую отвезем — дознаемся, натворил чего иль нет!
Но глаза у Мордасова незлые, шутит насчет съезжей — избы, где уважению к порядку учат кнутом.
— Дубина ты стоеросовая! Десятский[6] я тебе — за гилью[7] черноногой бегать? Сказывают, смышленный у тебя малец и голосом приятный, — потому приехали.
Не может уразуметь Дубонос: к добру или не к добру то, что слышит от Мордасова. Брови на переносице сдвинул, молчит.
— Комедиантом сына твоего хочет господин Грегори сделать, — что есть сие, понимаешь? — Мордасов возле дома портновского терпеливый, не натешился еще даровой своей ферязью.
Комедиантом? Розово-голубое, пестро-крикливое, ярморочное смутным воспоминанием зашевелилось у Дубоноса в голове.
— Это как — потешником? Игрецом? Так ведь грех то, господин…
— Скривился! — захохотал Мордасов вновь. — Царева служба грешной не бывает, дурак! Да говоришь не по чину много, время у особ казенных крадешь. Где он, дармоед твой, зови.
А Куземка уже тут как тут. За отцову спину прячется, ногой о ногу чешет — не только лопухов, холера, а и крапивы за сараем полно. Слышал, что дворянин о нем хорошее говорил, вот и застеснялся, будто девка перед сватами. И Климка рядом, рот раскрывший, — не знает, то ли завидовать дружку, то ли сочувствовать. Нос у него облупленный, у Климки, уши торчком, глазами — хлоп, хлоп — растерянно моргает.
Мордасов Куземку оглядел, плечами пожал, на немца оглянулся — ну как, берем? А тот на Климку показывает, морщинами на бритом, бабьем лице двигает, — и этого, мол, тоже.
— Помыться, рубахи чистые надеть и быть наготове — подводы поутру подъедут, в школу на Кукуй повезут.
И вот уже лишь след в пыли от брички да конские яблоки. И возле дома испуганные мужики да парни.
Всякие есть в их слободе мастера. Комедиантов еще не бывало.
«Мыслю, государь, есть выход…»
Не ведали и ведать в Мещанской слободе не могли, какая беседа давеча произошла в Теремном дворце — кремлевских хоромах царской семьи.
Утомленный тщанием в вечерней молитве, царь отдыхал в ожидании трапезы. Слюдяные окна, разрисованные травами и птицами, пропускали в покои мерклый свет. Красное сукно вокруг — на полу, на стенах, на лавах у стен — оттеняло бледность, даже синеватость царского чела.
Было ему теперь от рождения сорок четыре, этому тихому, богобоязненному человеку, всея Великой и Малой и Белой России самодержцу, как называют его в государственных бумагах. А выглядит намного старше. Всю жизнь более всего почитал он нехитрые семейные радости, домашние утехи, минуты просветления в молитве, — а как же часто приходилось надевать на хилые плечи походную епанчу и на долгие месяцы разлучаться с родными, — идти на чужбину с войском, воевать Руси города и веси. Всю жизнь не выносит вида крови, не ест по понедельникам, средам и пятницам мясного, изнуряет себя постами, — а в пытных узилищах[8] не убавляется работы заплечных дел мастерам: то соляной бунт державу сотрясает, то медный, то Стенька-антихрист кровавое затевает гульбище…
Не прогневить бы всевышнего — в последнее время, вроде, стало спокойнее. И на кордонах шкоды никто не чинит. И холопы не мутят воду — долго будут помнить, подлые, как ехал разбойник Стенька в Москву: на огромной подводе виселица, и к виселице смутьян-атаман привязан за шею цепью. И молодая царица Наталья, сладкая утеха царю за два года вдовства, хорошо себя чувствует во второй своей беременности — первенцу ее, царевичу Петру, на другой перевалило годок…
Алексей Михайлович приязненно глядит на собеседника — милого сердцу Сергеича, окольничего[9] Артамона Сергеевича Матвеева. Немногим в Москве даже из знатных родов дозволено перед государем сидеть, тем более в этой комнате. Разве только думные греют тяжелыми задами лавы, когда собираются по делу неотложному, чрезвычайному. Но чтобы в комнату приносилось для гостя еще одно кресло, кроме единственного, что тут стоит для хозяина, да чтобы хозяин велел каждый раз подсовывать это кресло поближе к своему, — такое в Теремном дворце бывает, лишь когда приходит Артамон Матвеев.
Ведомо царю — ненавистью черной платят за это бояре худородному (отец, смешно сказать, — малороссийский дьяк!) Матвееву. В обжорливых, хмельных своих застольях змеиным ядом исходят, порядки его домашние обговаривая. И то, что жену себе взял англичанку, а она, бесстыдница, российских обычаев не блюдет и на гости всегда выходит, к мужскому разговору, как равная, присоединяется. И то, что сыну на заморский лад дозволил волосы до плеч отрастить, и у чужеземцев их языкам басурманским и дури разной учиться. И то, что дом его картинами искусительными и парсунами немецкого и польского письма завешан. И то, что в покоях тикают, динькают, бомкают часы в несметном количестве и время показывают всяк по-своему: одни — по-немецки с полудня, другие — как у италийцев принято, с захода солнца, третьи — с восхода его, по-иудейски и вавилонски, четвертые — как латинская церковь отсчитывает, с полуночи…
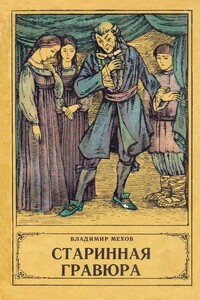
Драматичная повесть белорусского писателя о Российской империи времен крепостничества, о судьбах крепостных балерин, принадлежавших шкловскому помещику Семену Зоричу.
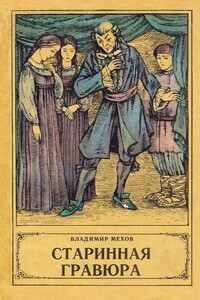
Герой повести — один из деятелей раннего славянского книгопечатания, уроженец Могилева, печатник Спиридон Соболь, составитель и издатель (в 1631 году) первого кириллического букваря для детей.

В основе хроники «Два года из жизни Андрея Ромашова» лежат действительные события, происходившие в городе Симбирске (теперь Ульяновск) в трудные первые годы становления Советской власти и гражданской войны. Один из авторов повести — непосредственный очевидец и участник этих событий.

Исторический роман Акакия Белиашвили "Бесики" отражает одну из самых трагических эпох истории Грузии — вторую половину XVIII века. Грузинский народ, обессиленный кровопролитными войнами с персидскими и турецкими захватчиками, нашёл единственную возможность спасти национальное существование в дружбе с Россией.

Роман основан на реальной судьбе бойца Красной армии. Через раскаленные задонские степи фашистские танки рвутся к Сталинграду. На их пути практически нет регулярных частей Красной армии, только разрозненные подразделения без артиллерии и боеприпасов, без воды и продовольствия. Немцы сметают их почти походя, но все-таки каждый бой замедляет темп продвижения. Посреди этого кровавого водоворота красноармеец Павел Смолин, скромный советский парень, призванный в армию из тихой провинциальной Самары, пытается честно исполнить свой солдатский долг. Сможет ли Павел выжить в страшной мясорубке, где ежесекундно рвутся сотни тяжелых снарядов и мин, где беспрерывно атакуют танки и самолеты врага, где решается судьба Сталинграда и всей нашей Родины?

Отряд красноармейцев объезжает ближайшие от Знаменки села, вылавливая участников белогвардейского мятежа. Случайно попавшая в руки командира отряда Головина записка, указывает место, где скрывается Степан Золотарев, известный своей жестокостью главарь белых…
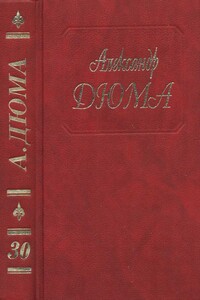
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
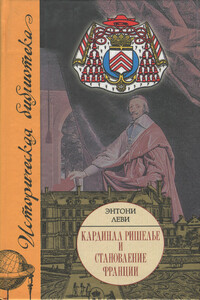
Подробная и вместе с тем увлекательная книга посвящена знаменитому кардиналу Ришелье, религиозному и политическому деятелю, фактическому главе Франции в период правления короля Людовика XIII. Наделенный железной волей и холодным острым умом, Ришелье сначала завоевал доверие королевы-матери Марии Медичи, затем в 1622 году стал кардиналом, а к 1624 году — первым министром короля Людовика XIII. Все свои усилия он направил на воспитание единой французской нации и на стяжание власти и богатства для себя самого. Энтони Леви — ведущий специалист в области французской литературы и культуры и редактор авторитетного двухтомного издания «Guide to French Literature», а также множества научных книг и статей.