Курортник - [5]
После недолгого ожидания меня провели в кабинет; прекрасная со вкусом обставленная комната сразу внушила мне доверие. Поплескав, как принято, водой в соседнем помещении, ко мне вышел врач, интеллигентное лицо обещало понимание, и мы приветствовали друг друга, подобно двум корректным боксерам перед боем, сердечным рукопожатием. Раунд начали осторожно, прощупывали друг друга, нерешительно пробовали первые удары. Пока мы все еще оставались на нейтральной почве, разговор шел об обмене веществ, питании, возрасте, перенесенных болезнях и был совершенно безобиден, лишь при отдельных словах взгляды наши скрещивались, возвещая готовность к бою. Врач пускал в ход обороты из медицинского тайного языка, которые я лишь весьма приблизительно расшифровывал, но они удачно расцвечивали его речь и давали ему надо мной ощутимое преимущество. Тем не менее уже спустя несколько минут мне стало ясно, что с этим врачом нечего бояться того жестокого разочарования, какое людям моего склада особенно огорчительно терпеть от врачей: когда за подкупающим фасадом ума и знаний наталкиваешься на закоснелую догматику, первое же положение которой постулирует, что взгляды, образ мышления и терминология пациента — чисто субъективные явления, а врача, напротив, обладают строго объективной ценностью. Нет, тут мне попался врач, с которым имело смысл сойтись в словесном поединке, он был не только эрудирован, как того требовала его профессия, он был мудр, в какой степени — я еще не мог определить, то есть способен ощущать относительность всех духовных ценностей. Среди образованных и умных людей сплошь и рядом случается, что каждый воспринимает склад ума и язык, догматику и верования другого как чисто субъективные, как всего лишь приближение, всего лишь ускользающую параболу. Но чтобы каждый признал то же самое и в себе самом и к себе самому приложил, и каждый как за собой, так и за противником оставил право на только ему присущие, собственные, душевный склад, образ мышления и язык и что, стало быть, двое людей, обмениваясь мыслями, постоянно отдавали бы себе отчет в ненадежности своего оружия, многозначности всех слов, недостижимости действительно точного выражения, а потому и необходимости всячески идти другому навстречу, обоюдной доброй воли и интеллектуального рыцарства такие прекрасные, казалось бы, само собой разумеющиеся между двумя мыслящими существами отношения практически встречаются до того редко, что мы от души рады всякому, даже отдаленному их подобию, всякому, пусть частичному, их осуществлению. Но тут, с этим специалистом по болезням обмена веществ, во мне блеснула какая-то надежда на возможность такого понимания и общения.
Обследование — правда, еще без анализа крови и рентгена — дало обнадеживающие результаты. Сердце в норме, дыхание превосходно, кровяное давление вполне приличное, зато выявились несомненные признаки ишиаса, отдельные подагрические наросты и некоторая общая вялость всей мускулатуры. Пока доктор снова мыл руки, в нашей беседе наступила краткая пауза.
После того, как и следовало ожидать, произошел перелом, нейтральная почва была оставлена, и мой партнер двинулся в наступление осторожно акцентированным, будто невзначай предложенным вопросом:
— А вы не думаете, что ваша болезнь отчасти может вызываться также психикой?
Итак, ожидаемое, заранее предвиденное произошло. Объективные данные осмотра не отвечали полностью моим жалобам, налицо оказался подозрительный излишек восприимчивости, моя субъективная реакция на подагрические боли не соответствовала предусмотренной средней норме, и вот во мне признали невротика. Что ж, примем бой!
Так же осторожно и так же словно бы между прочим я пояснил, что не верю в болезни и недомогания, вызываемые «также психикой», что в моей собственной биологии и мифологии «психическое» является не каким-то побочным фактором рядом с физическим, а первичной силой и что, следовательно, я считаю любое наше состояние, любое чувство радости и печали, равно как и любую болезнь, любой несчастный случай и смерть психогенными, порожденными душой. Если у меня на пальцах вырастают подагрические шишки, то это моя душа, это высшее жизненное начало, «оно» во мне самовыражается в пластическом материале. Если душа болит, то она способна выражать это самыми различными способами, и что у одного принимает форму мочевой кислоты, готовя разрушение его «я», то у другого оказывает подобную же услугу, выступая в обличье алкоголизма, а у третьего уплотняется в кусочек свинца, внезапно пробивающего ему черепную коробку. При этом я согласился, что задача и возможности лечащего врача, как видно, в большинстве случаев должны поневоле ограничиваться установлением материальных, то есть вторичных изменений и борьбой с ними материальными же средствами.
Я и сейчас вполне допускал, что доктор от меня попросту откажется. Пусть он не скажет напрямик: «Ну и чушь же вы городите, уважаемый!», но, возможно, он с чуть излишне снисходительной улыбкой станет мне поддакивать, говорить банальности о влиянии настроений, особенно на артистическую душу, и помимо этих общих мест еще, того и гляди, вытащит на свет роковое словечко «фантазерство». Слово это пробный камень, чувствительнейшие весы для духовных величин, которые заурядный ученый спешит окрестить фантазиями. Он прибегает к этому удобному словечку всякий раз, когда надо измерить и описать жизненные явления, для которых и наличные материальные измерительные приборы слишком грубы, и желание и способности говорящего недостаточны. Естествоиспытатель ведь, как правило, мало что знает, в частности, он не знает, что именно для летучих, подвижных ценностей, которые он именует фантазиями, вне естественных наук существуют старые, очень тонкие методы измерения и выражения, что и Фома Аквинский
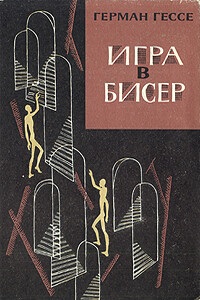
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
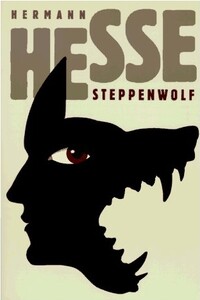
«Степной волк» – самый культовый и самый известный роман немецкого писателя из опубликованных в России.Этой книгой была открыта плеяда так называемых интеллектуальных романов о жизни человеческого духа.
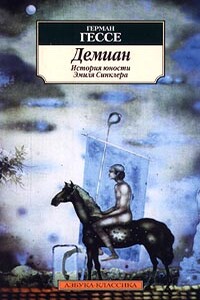
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
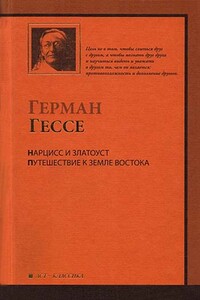
Под укрытием мирного монастыря Мариабронна интеллектуал Нарцисс хочет преодолеть себя, чтобы приблизиться к Богу-Отцу. Златоуст, нежный и горячий, ближе Матери-Земле и тонко ощущает безграничную Природу...
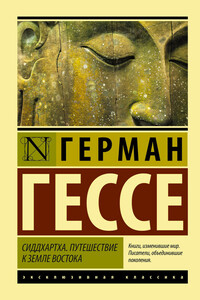
«Сиддхартха» – жемчужина прозы Германа Гессе, на страницах которой нашли свое отражение путешествия писателя по Индии, а также его интерес к восточным религиям.Местом действия является Индия времен Сиддхартхи Гаутамы – основателя одной из наиболее глубоких и мудрых религий человечества – буддизма. В этой небольшой книге Гессе удалось объяснить европейцам его суть, создать идеальную систему – некий свод взаимосвязанных правил, как нужно жить, как следует исправлять свои ошибки, как найти свое истинное «я».Эту притчу стоит читать и перечитывать не из-за сюжета и не в поиске новых знаний, а из-за того глубинного понимания мира, ощущения единения с окружающими, которое она дает.В издание также включена аллегорическая повесть «Путешествие к земле Востока».

«Сиддхарта» (1920) – описывает путь одиночки. Ее действие разворачивается в древней Индии в те времена, когда Будда Гаутама еще только начинал проповедовать свое учение.Заглавный герой повести, сын брахмана, ушел от своего отца, чтобы стать бродячим аскетом; затем ушел от бродячих аскетов, чтобы услышать учение Будды; затем покинул Будду, чтобы соблазн следовать его учению не стал преградой на его собственном пути к просветлению. И просветление, обретенное им много лет спустя, заключалось в том, что он обрел способность видеть, принимать и любить мир таким, как он есть.
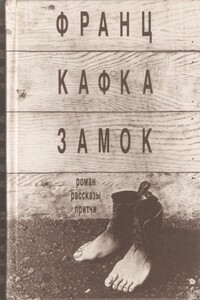
Франц Кафка. Замок. Роман, рассказы, притчи. / Сост., вступ. статья Е. Л. Войскунского. — М.: РИФ, 1991 – 411 с.В сборник одного из крупнейших прозаиков XX века Франца Кафки (1883 — 1924) вошли роман «Замок», рассказы и притчи — из них «Изыскания собаки», «Заботы отца семейства» и «На галерке», а также статья Л. З. Копелева о судьбе творческого наследия писателя впервые публикуются на русском языке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Один из лучших романов Гюго — «Отверженные». Это громадная эпопея, представляющая целую энциклопедию французской жизни начала XIX века. Сюжет романа чрезвычайно увлекателен, судьбы его героев удивительно связаны между собой неожиданными и таинственными узами. Его основная идея — это путь от зла к добру, моральное совершенствование как средство преобразования жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
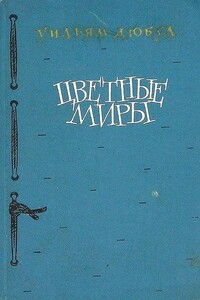
Роман американского писателя Уильяма Дюбуа «Цветные миры» рассказывает о борьбе негритянского народа за расовое равноправие, об этапах становления его гражданского и нравственного самосознания.

В тринадцатом томе собрания сочинений Матери с точки зрения интегральной Йоги Шри Ауробиндо рассматриваются фундаментальные вопросы воспитания, обучения, образования человеческой личности в наиболее важных областях ее развития. Много внимания уделяется также самым разнообразным особенностям роста и формирования личности детей и подростков. Книга будет полезна и всем, кто самостоятельно занимается совершенствованием своего существа. Характерной чертой ряда основных статей книги является отсутствие специальной терминологии Йоги, что делает их содержание доступным для всех интересующихся педагогической тематикой.

В повести «О мышах и людях» Стейнбек изобразил попытку отдельного человека осуществить свою мечту. Крестный путь двух бродяг, колесящих по охваченному Великой депрессией американскому Югу и нашедших пристанище на богатой ферме, где их появлению суждено стать толчком для жестокой истории любви, убийства и страшной, безжалостной мести… Читательский успех повести превзошел все ожидания. Крушение мечты Джорджа и Ленни о собственной небольшой ферме отозвалось в сердцах сотен тысяч простых людей и вызвало к жизни десятки критических статей.Собрание сочинений в шести томах.
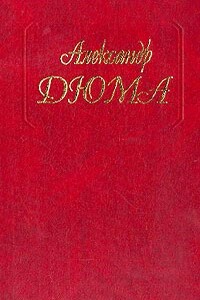
Роман Дюма «Робин Гуд» — это детище его фантазии, порожденное английскими народными балладами, а не историческими сочинениями. Робин Гуд — персонаж легенды, а не истории.

Самобытный талант русского прозаика Виктора Астафьева мощно и величественно звучит в одном из самых значительных его произведений — повествовании в рассказах «Царь-рыба». Эта книга, подвергавшаяся в советское время жестокой цензуре и критике, принесла автору всенародное признание и мировую известность.Собрание сочинений в пятнадцати томах. Том 6. «Офсет». Красноярск. 1997.