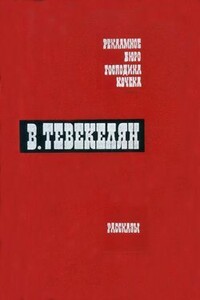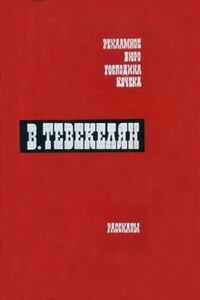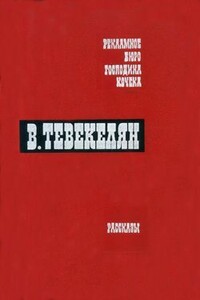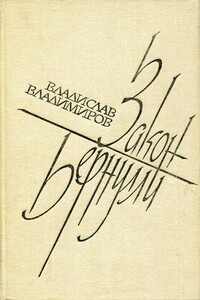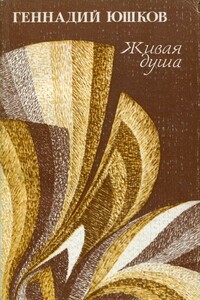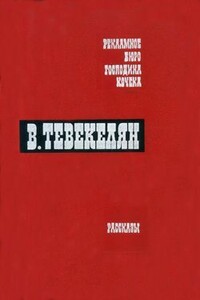– Тайник у нас узкий, сидеть там нельзя, но притока воздуха будет достаточно. Полицейские с контрольного пункта никогда не заглядывают в якорный трюм, а если и заглянут, все равно ничего не увидят. Не станут же они ломать все перегородки на моем судне, тем более что документы у меня по всем правилам, железные, – обнадеживал Осман-ага.
В воскресенье на рассвете, когда в порту было малолюдно, я, изображая пьяного матроса, пробрался на лодку и заперся в каюте капитана, а когда подняли якорь и приблизились к контрольному пункту, спрятался в тайник. Осман-ага собственноручно заколотил за мною доски, и я оказался в темной, сырой дыре. Здесь было настолько узко, что нельзя было даже поднять руки. Потянулись томительные часы. Болели ноги, ломило поясницу. Я старался думать о посторонних вещах, пытался даже вздремнуть, но мешал гул мотора над головой.
Потом по палубе застучали тяжелые сапоги, видимо, на лодку поднялись полицейские.
Мне казалось, что прошла целая вечность, когда капитан оторвал доски тайника.
– Ну как, жив? – спросил он, освещая мое лицо фонариком.
Я поднялся на палубу. День был погожий, ни единого облака на голубом небе. Монотонно стучал мотор. Мы медленно плыли в сторону Батуми. Я вдыхал морской воздух и смотрел вдаль, представляя себе очертания родных берегов.
…В Тбилиси, зайдя в кабинет Леонидзе, я молча положил перед ним чеки на пятнадцать тысяч долларов.
Он поднял на меня черные, сразу вдруг потеплевшие глаза.
– Молодец, провернул такую сложную операцию, да еще сберег деньги. Теперь можешь ехать отдыхать.
Но я так устал, что, казалось, не отдохну и за год… Впрочем, я знал, что бывает усталость лучше и счастливее любого отдыха.
1966