Культура растафари - [116]
Производство иллюзорных идентичностей, предлагаемых сегодня массовой культурой на любой вкус с использованием бесчисленных экзотических и исторических, а также фантастических образов и реальностей, создаёт впечатление того, что расовые, культурные и другие различия отныне не только не подавляются, но напротив — переживают расцвет, поощряются господствующей культурой. Промышленное производство бесчисленных культурных идентичностей в эпоху компьютерного искусства и персональных аудиовизуальных средств, а также готовности рынка откликнуться на потребности любой субкультуры, творящей сколь угодно причудливый и далёкий от реальности иллюзорный мир для «своего круга» превращает жизнь в игру (что, впрочем, согласно Й. Хёйзинге, ей присуще изначально), — всё это ведёт к потере различения между «образами» и «реальной жизнью». Но для этого производства требуются многочисленные образцы экзотической реальности, которые массовая культура и черпает в третьем мире, а также в самых экстравагантных на взгляд жителей развитых стран субкультурах прошлого и настоящего.
Использование конформистской массовой культурой экзотических элементов, издавна бывших излюбленной темой контркультуры и культурного бунтарства, можно истолковать и как отражение в массовой культуре упомянутого во Введении глобального культурного синтеза, связанного с универсализацией культурно-исторического бытия человека, со складыванием общепланетарной цивилизации и общепланетарной культуры. объединяющих в великом диалоге локальные цивилизации прошлого. локальные культуры настоящего и предполагаемого будущего.
Начавшись несколько ранее в элитарной культуре, сегодня этот процесс затронул и массовую культуру.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. «ОБРАЗ СЕБЯ» КАК СТЕРЖЕНЬ КУЛЬТУРНОГО НАЦИОНАЛИЗМА
Отмеченное в Главе IV самоотождествление бунтарей с образом условного африканца — лишь часть сложного процесса взаимодействия образов в культуре. Сам этот образ постоянно видоизменяется, и культурный национализм есть не что иное, как стремление изменить свой образ — в собственных глазах и в глазах окружающих. Что касается белых нонконформистов, не всякий образ «чёрной культуры» их утраивает, но лишь образ, формируемый культурным национализмом (универсалистский, западнический образ — ни в коем случае!), в момент разрыва с классическим почвенническим образом, создававшимся ранним культурным национализмом,[601] т. е. именно тот образ, который был воплощён в жизненном стиле субкультур раста-рэггей и хип-хоп. Для самих африканцев и афроамериканцев эти образы обозначают резкое размежевание в «культурой отцов» — при одержимости растафари «корнями», «родной культурой», как отмечают все исследователи, о чём бы — Ямайке, Великобритании или Африке ни шла речь, она всегда вызывает конфликт отцов и детей, и даже едва ли не больший, чем конфликт с «белой» культурой. В свою очередь, даже «белая» культура не вызывает у растафари, «чёрных мусульман», «чёрных иудеев», а также в соответствующих субкультурах такого омерзения, как культура «негра». Образы собственной культуры становятся основным предметом дискуссии между культурным национализмом и универсализмом. Как отмечает в работе «Чёрный вызов» Л. Беннетт-младший, видный чёрный националист, «история действует… потому что она является базисом для того образа, на основе которого действует человек. Это вопрос огромной важности, поскольку люди действуют, исходя из их образа. Они реагируют не на ситуацию, а на ситуацию, преображенную образами, которые они носят в своём сознании. Короче говоря, они реагируют на образ-ситуацию, на представления, которые они имеют о себе самих в данной ситуации… Образ видит… Образ чувствует… Образ действует… И если вы хотите изменить ситуацию, вы должны изменить тот образ, который люди имеют насчёт самих себя и их жизненной ситуации».[602]
Рассуждая о том, что спонтанность и коллективное переживание, создававшее чувство общности, покорили белую молодёжь в «чёрной» музыке, Саймон Фрит, однако, замечает, что увлечение это было иным, нежели то, которое вызывал белый авангард. В этих достоинствах крылась и опасность того, что коллективный характер стал препоной для выражения индивидуализма, а чувственность превратилась в «телесное искусство». К концу 60-х «чёрная музыка» стала синонимом развлекательности, «попсовости», танцевального шоу в костюмах с блёстками.[603]
Спонтанный характер «чёрной» музыки пришёл в противоречие с напряжённой рефлексией и многозначительностью эзотерических хитросплетений «прогрессивного рока». Не только джаз и диско, но даже соул, фанк и чёрный блюз обретают попсово-эстрадный имидж. Создаётся парадоксальная ситуация, когда имидж чёрного исполнителя как «развлекателя» и шоумена противоречит требованиям к «чёрной» музыке. В культуре 60-х и 70-х появляется очень многозначительная тонкость: совершенно одинаковое для постороннего слуха звучание рок-н-ролла в исполнении чёрных и белых музыкантов несут совершенно разную смысловую нагрузку. К примеру, «Роллинг стоунз», по оценке даже музыковедов африканского происхождения, сохраняли дух и звучание чёрного ритм-энд-блюза зачастую бережнее и достовернее, чем чёрные исполнители, но воспринимались как рок, а Мадди Уотерс, например, или Би Би Кинг — нет. Те немногие из чёрных исполнителей, которые влились в основной поток рок-революции 60-х и стали её олицетворением, например, Джимми Хендрикс, не воспринимались как чёрные исполнители (т. е. в глазах богемной молодёжи не имели, в отличие от Джеймса Брауна и Чака Бэрри, никакой расовой принадлежности, как не замечалась, например, расовая принадлежность белых исполнителей как незначимая в данном контексте деталь), мало того, они и сами старались избегать атрибутов «чёрной культуры». И это при том, что молодёжная культура 60-х была антирасистской. Рок-культуру заставил отмежеваться от «чёрной» музыки возобладавший вековой образ чернокожего, укоренённый ещё в английской простонародной опере XVII века и менестрельском шоу южных штатов — образ Джима Кроу и толстой «мамми», вызывающий добродушное сочувствие, симпатию пополам с насмешкой.
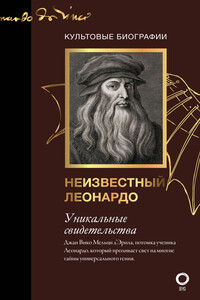
В своей книге прямой потомок Франческо Мельци, самого близкого друга и ученика Леонардо да Винчи — Джан Вико Мельци д’Эрил реконструирует биографию Леонардо, прослеживает жизнь картин и рукописей, которые предок автора Франческо Мельци получил по наследству. Гений живописи и науки показан в повседневной жизни и в периоды вдохновения и создания его великих творений. Книга проливает свет на многие тайны, знакомит с малоизвестными подробностями — и читается как детектив, основанный на реальных событиях. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

В настоящей монографии представлен ряд очерков, связанных общей идеей культурной диффузии ранних форм земледелия и животноводства, социальной организации и идеологии. Книга основана на обширных этнографических, археологических, фольклорных и лингвистических материалах. Используются также данные молекулярной генетики и палеоантропологии. Теоретическая позиция автора и способы его рассуждений весьма оригинальны, а изложение отличается живостью, прямотой и доходчивостью. Книга будет интересна как специалистам – антропологам, этнологам, историкам, фольклористам и лингвистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся древнейшим прошлым человечества и культурой бесписьменных, безгосударственных обществ.

Книга посвящена особому периоду в жизни русского театра (1880–1890-е), названному золотым веком императорских театров. Именно в это время их директором был назначен И. А. Всеволожской, ставший инициатором грандиозных преобразований. В издании впервые публикуются воспоминания В. П. Погожева, помощника Всеволожского в должности управляющего театральной конторой в Петербурге. Погожев описывает театральную жизнь с разных сторон, но особое внимание в воспоминаниях уделено многим значимым персонажам конца XIX века. Начав с министра двора графа Воронцова-Дашкова и перебрав все персонажи, расположившиеся на иерархической лестнице русского императорского театра, Погожев рисует картину сложных взаимоотношений власти и искусства, остро напоминающую о сегодняшнем дне.

«Медный всадник», «Витязь на распутье», «Птица-тройка» — эти образы занимают центральное место в русской национальной мифологии. Монография Бэллы Шапиро показывает, как в отечественной культуре формировался и функционировал образ всадника. Первоначально святые защитники отечества изображались пешими; переход к конным изображениям хронологически совпадает со временем, когда на Руси складывается всадническая культура. Она породила обширную иконографию: святые воины-покровители сменили одеяния и крест мучеников на доспехи, оружие и коня.
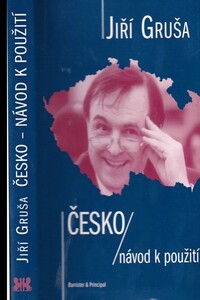
Это книга о чешской истории (особенно недавней), о чешских мифах и легендах, о темных страницах прошлого страны, о чешских комплексах и событиях, о которых сегодня говорят там довольно неохотно. А кроме того, это книга замечательного человека, обладающего огромным знанием, написана с с типично чешским чувством юмора. Одновременно можно ездить по Чехии, держа ее на коленях, потому что книга соответствует почти всем требования типичного гида. Многие факты для нашего читателя (русскоязычного), думаю малоизвестны и весьма интересны.

Книга Евгения Мороза посвящена исследованию секса и эротики в повседневной жизни людей Древней Руси. Автор рассматривает обширный и разнообразный материал: епитимийники, берестяные грамоты, граффити, фольклорные и литературные тексты, записки иностранцев о России. Предложена новая интерпретация ряда фольклорных и литературных произведений.