Кукла и карлик. Христианство между ересью и бунтом - [3]
Сегодня одно из расхожих представлений о философах состоит в том, что производимый ими анализ лицемерия господствующего строя выдает их наивность: ну почему они все еще возмущены зрелищем того, что люди вероломно попирают провозглашенные ими ценности, когда это соответствует их интересам? Неужели философы действительно ожидают, что люди будут твердыми и принципиальными? Нужно встать на защиту настоящих философов: их поражает прямо противоположное — отнюдь не то, что люди не «верят на самом деле» и не поступают в соответствии с ими же провозглашенными принципами, а то, что люди, которые провозглашают циничную отстраненность и радикальный прагматический оппортунизм, втайне верят гораздо больше, чем они согласны признать, даже если они вменяют эти верования (несуществующим) «другим».
Внутри этих рамок подвешенной веры дозволены три так называемых постсекулярных выбора: можно либо восхвалять богатство политеистических досовременных религий, подавленных патриархальным иудео-христианским наследием, либо продолжать твердить об уникальности иудейского наследия и о его неизменной, в отличие от христианства, вере во встречу с радикальной Инаковостью. Здесь я бы хотел высказаться с предельной ясностью: я не думаю, что нынешний смутный спиритуализм, сосредоточенность на открытости к Инаковости и ее безоговорочному Зову, то состояние, в силу которого иудаизм стал сегодня едва ли не главенствующим этико-духовным подходом современных интеллектуалов, сам по себе является «естественной» формой того, что можно было бы назвать по старинке еврейской духовностью. Меня так и подмывает заявить, что здесь мы имеем дело с чем-то подобным гностической ереси в христианстве и что конечной жертвой этой пирровой победы иудаизма станут наиболее ценные элементы самой еврейской духовности с ее сосредоточенностью на уникальном коллективном опыте. Кто сегодня вспоминает о кибуцах, величайшем доказательстве того, что евреи не являются торгашами «по природе»?
Помимо этих двух возможностей единственно допустимая отсылка к христианству — это упоминание гностических или мистических традиций, которые пришлось исключить и репрессировать ради того, чтобы мог утвердиться главенствующий образ христианства. Сам Христос — в полном порядке, когда мы пытаемся выделять «первоначального» Христа, «рабби Иисуса», все еще не вписанного в христианскую традицию в собственном смысле. Агнесс Хеллер иронически говорит о «воскрешении иудейского Иисуса»: «наша задача сегодня — воскресить настоящего Иисуса из мистифицированной христианской традиции Иисуса (как) Христа»>8. Все это делает прямые отсылки к святому Павлу весьма щекотливыми: разве он не является символом установления христианской ортодоксии? Правда, в последнее десятилетие возникла небольшая лазейка, нечто вроде молчаливой договоренности о размене: восхвалять Павла дозволяется ПРИ УСЛОВИИ, что восхваляющий вписывает его обратно в иудейское наследие — тогда Павел выступает как радикальный иудей, автор политической иудейской теологии…
He отрицая такого подхода, я все-таки хочу подчеркнуть, что его последствия — если принимать их всерьез — гораздо более катастрофичны, чем это может показаться на первый взгляд. Читая писания Павла, нельзя не заметить, как глубоко и чудовищно он безразличен к Иисусу как живому человеку (к Иисусу, который еще не Христос, допасхальному Иисусу, Иисусу Евангелий) — Павел почти совершенно игнорирует те или иные деяния Иисуса, проповеди, притчи, все то, что Гегель называл потом мифическим элементом сказочного повествования, чистым допонятийным представлением (Vorstellung); ни в одном из своих сочинений он не занимается герменевтикой, исследованием «глубинного значения» той или иной притчи или деяний Иисуса. Ему важен не Иисус как историческое лицо, а исключительно тот факт, что он умер на кресте и воскрес из мертвых — удостоверившись в смерти и воскресении Иисуса, Павел приступает к своему истинному ленинизму — к организации новой партии, которая называется христианским сообществом… Вот вам Павел-ленинец: разве Павел, подобно Ленину, не был великим «основателем», и, будучи таковым, разве он не подвергался поношениям со стороны приверженцев «подлинного» марксизма-христианства? Разве созданная Павлом темпоральность «уже, но еще нет» не несет указания на ленинскую ситуацию в промежутке между двумя революциями, февральской и октябрьской 1917 года? Революция уже произошла, старый режим пал, наступила свобода,
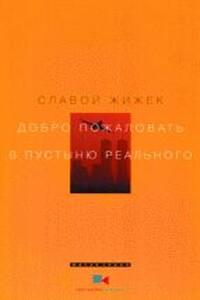
Сегодня все основные понятия, используемые нами для описания существующего конфликта, — "борьба с террором", "демократия и свобода", "права человека" и т. д. и т. п. — являются ложными понятиями, искажающими наше восприятие ситуации вместо того, чтобы позволить нам ее понять. В этом смысле сами наши «свободы» служат тому, чтобы скрывать и поддерживать нашу глубинную несвободу.
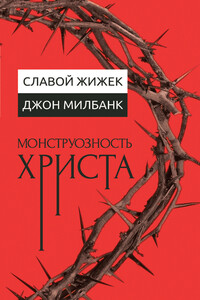
В красном углу ринга – философ Славой Жижек, воинствующий атеист, представляющий критически-материалистическую позицию против религиозных иллюзий; в синем углу – «радикально-православный богослов» Джон Милбанк, влиятельный и провокационный мыслитель, который утверждает, что богословие – это единственная основа, на которой могут стоять знания, политика и этика. В этой книге читателя ждут три раунда яростной полемики с впечатляющими приемами, захватами и проходами. К финальному гонгу читатель поймет, что подобного интеллектуального зрелища еще не было в истории. Дебаты в «Монструозности Христа» касаются будущего религии, светской жизни и политической надежды в свете чудовищного события: Бог стал человеком.
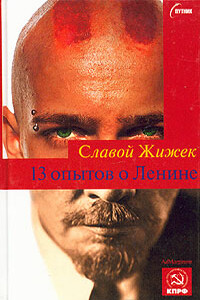
Дорогие читатели!Коммунистическая партия Российской Федерации и издательство Ad Marginem предлагают вашему вниманию новую книжную серию, посвященную анализу творчества В. И. Ленина.К великому сожалению, Ленин в наши дни превратился в выхолощенный «брэнд», святой для одних и олицетворяющий зло для других. Уже давно в России не издавались ни работы актуальных левых философов о Ленине, ни произведения самого основателя Советского государства. В результате истинное значение этой фигуры как великого мыслителя оказалось потерянным для современного общества.Этой серией мы надеемся вернуть Ленина в современный философский и политический контекст, помочь читателю проанализировать жизнь страны и актуальные проблемы современности в русле его идей.Первая реакция публики на идею об актуальности Ленина - это, конечно, вспышка саркастического смеха.С Марксом все в порядке, сегодня, даже на Уолл-Стрит, есть люди, которые любят его - Маркса-поэта товаров, давшего совершенное описание динамики капитализма, Маркса, изобразившего отчуждение и овеществление нашей повседневной жизни.Но Ленин! Нет! Вы ведь не всерьез говорите об этом?!
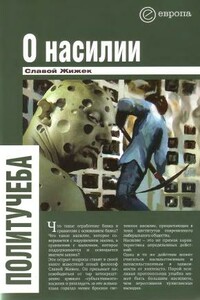
Что такое ограбление банка в сравнении с основанием банка? Что такое насилие, которое совершается с нарушением закона, в сравнении с насилием, которое поддерживается и освящается именем закона?Эти острые вопросы ставит в своей книге известный левый философ Славой Жижек. Он призывает нас освободиться от чар непосредственного зримого «субъективного» насилия и разглядеть за его вспышками гораздо менее броское системное насилие, процветающее в тени институтов современного либерального общества. Насилие — это не прямая характеристика определенных действий.
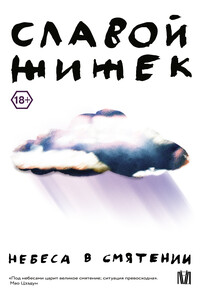
По мере того как мир выходит (хотя, возможно, только временно) из пандемии, в центре внимания оказываются другие кризисы: вопиющее неравенство, климатическая катастрофа, отчаявшиеся беженцы и нарастание напряженности в результате новой холодной войны. Неизменный мотив нашего времени – безжалостный хаос. На пепелище неудач нового века Жижек заявляет о необходимости международной солидарности, экономических преобразований и прежде всего безотлагательного коммунизма. В центре внимания новой книги Славоя Жижека, традиционно парадоксальной и философски-остросюжетной, – Трамп и Rammstein, Amazon и ковид, Афганистан и Христос, Джордж Оруэлл и интернет-тролли, Ленин и литий, Байден и Европа, а также десятки других значимых феноменов, которых Жижек привлекает для радикального анализа современности.
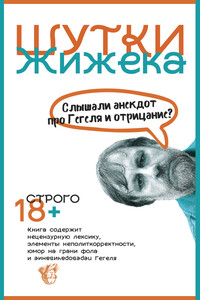
Данная книга содержит каждую шутку, процитированную, перефразированную или упомянутую в работах Славоя Жижека (включая некоторые из неопубликованных рукописей). В отличие от любой другой книги Славоя Жижека, эта служит емким справочником по философским, политическим и сексуальным темам, занимающим словенского философа. Для Жижека шутки – это кратчайший путь к философскому пониманию, а для читателя этого (действительно смешного) сборника – способ познакомиться с парадоксальной мыслью неординарного философа.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.

Во 2-м томе марксистско-ленинская диалектика рассматривается как теоретическая и методологическая основа современного научного познания. Исследуется диалектика субъекта и объекта, взаимосвязь метода теория и практики, анализируется мировоззренческая, методологическая эвристическая и нормативная функции принципов, законов и категорий диалектики, раскрывается единство диалектики, логики и теории познания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поль Вирильо, архитектор, основатель (совместно с Клодом Параном) группы «Architecture Principe», писатель, автор книг «Бункер: археология», «Скорость и политика», «Эстетика исчезновения», «Критическое пространство», «Информационная бомба», «Пейзаж событий» и других, католик, развивает в эссе «Машина зрения» свою традиционную тему критической рефлексии над феноменом скорости. Социальная эволюция, тесно переплетенная, согласно Вирильо, с процессом всеобщего ускорения, в данном случае рассматривается в ее визуальном аспекте.
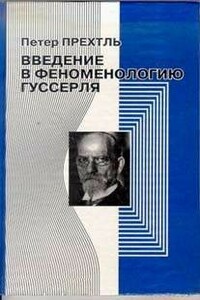
Книга известного современного немецкого философа Петера Прехтля представляет собой редкое по систематичности изложение феноменологии Эдмунда Гуссерля. Автор сосредоточивается не на историческом, а на тематическом плане гуссерлевских исследований.http://fb2.traumlibrary.net.
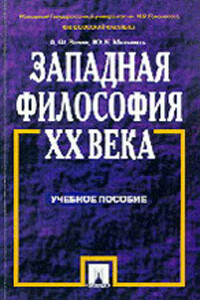
Предлагаемая вашему вниманию работа была подготовлена профессорами философского факультета МГУ, ведущими курс по истории современной зарубежной философии в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов. Выполненная при поддержке Фонда Сороса, в рамках программы «Обновление гуманитарного образования в России», она была рекомендована в качестве учебного пособия для ВУЗов и издана чрезвычайно ограниченным тиражом в 1994 г., который был, в соответствии с правилами Фонда Сороса, бесплатным и полностью разослан по российским ВУЗам.http://fb2.traumlibrary.net.