Круглый год с литературой. Квартал третий - [3]
Мне до сих пор непонятно, почему я взял эту книгу с собой, отправляясь в путешествие, финиш которого предвидеть было невозможно. По-видимому, этот странный поступок был связан с моей, как мне тогда казалось, не совсем подходящей деятельностью после окончания физического факультета МГУ. Ещё со времён БАМа, до университета, я решил стать физиком-теоретиком, а судьба бросила меня в астрономию. Я мечтал (о, глупец) удрать оттуда в физику, для чего почитывал соответствующую литературу. Хорошо помню, что только-только вышедшую в русском переводе монографию Гайтлера я купил в апреле 1940 года в книжном киоске на Моховой, у входа в старое здание МГУ. Книга соблазнила меня возможностью сразу же погрузиться в глубины высокой теории и тем самым быть «на уровне». Увы, я очень быстро обломал себе зубы: дальше предисловия и начала первого параграфа, трактуюшего о процессах первого порядка, я не сдвинулся. Помню, как я был угнетён этим обстоятельством – значит, конец, значит, не быть мне физиком-теоретиком! Где мне тогда было знать, что эта книга просто очень трудная и к тому же «по-немецки» тяжело написана. И всё же – почему я запихнул её в свой рюкзак? «Весёлую шутку я отчебучил, выдав мальчишке Гайтлера», – думал я. И почти сразу же об этом забыл […] я совсем забыл про странного юношу, которого изредка бессознательно фиксировал боковым зрением – при слабом, дрожащем свете коптилки, на фоне диких песен и весёлых баек паренёк тихо лежал на нарах и что-то читал. И только подъезжая к Ашхабаду, я понял, что он читал моего Гайтлера! «Спасибо», – сказал он, возвращая мне книгу в чёрном, сильно помятом переплёте. «Ты что, прочитал её?» – неуверенно спросил я. «Да». Я, поражённый, молчал. «Это трудная книга, но очень глубокая и содержательная. Большое Вам спасибо», – закончил паренёк.
Мне стало не по себе. Судите сами – я, аспирант, при всем желании не смог даже просто прочитать хотя бы первый параграф этого проклятого Гайтлера, а мальчишка, студент третьего курса, не просто прочитал, а проработал (вспомнилось, что, читая, он ещё что-то записывал), да ещё в таких, прямо скажем, мало подходящих условиях! […]
В конце 1944 года вернулся и мой шеф по аспирантуре, милейший Николай Николаевич Парийский. Встретились радостно – ведь не виделись три года, и каких! Пошли расспросы, большие и малые новости […] Между делом Николай Николаевич сказал: «А у Игоря Евгеньевича (Тамма, старого друга Н.Н.) появился совершенно необыкновенный аспирант, таких раньше не было. Даже Виталий Лазаревич Гинзбург ему в подметки не годится». – «Как его фамилия?» – «Подождите, подождите, такая простая фамилия, всё время крутится в голове – чёрт побери, совсем склеротиком стал!» Это было так характерно для Николая Николаевича, известного в астрономическом мире своей крайней рассеянностью. А я подумал тогда: «Весь выпуск физфака МГУ военного времени прошёл передо мною в ашхабадском эшелоне. Кто же среди них этот выдающийся аспирант?» И в то же мгновение я нашёл его: это мог быть только мой сосед по нарам в теплушке, который так поразил меня, проштудировав Гайтлера. «Это Андрей Сахаров?» – спросил я Николая Николаевича. «Во-во, такая простая фамилия, а выскочила из головы!»
…Я не видел его после Ашхабада 24 года. В 1966-м, как раз в день моего пятидесятилетия, меня выбрали в членкоры АН СССР. На ближайшем осеннем собрании академик Яков Борисович Зельдович сказал мне: «Хочешь, я познакомлю тебя с Сахаровым?» Еле протиснувшись сквозь густую толпу, забившую фойе Дома учёных, Я.Б. представил меня Андрею. «А мы давно знакомы», – сказал он. Я его узнал сразу – только глаза запали ещё глубже. Странно, но лысина совершенно не портила его благородный облик.
В конце мая 1971 года, в день 50-летия Андрея Дмитриевича, я подарил ему чудом уцелевший тот самый экземпляр книги Гайтлера «Квантовая теория излучения». Он был очень тронут, и, похоже, у нас обоих на глаза навернулись слёзы».
Книга Иосифа Самуиловича Шкловского «Эшелон» есть в Интернете. Очень рекомендую. Живёт, несмотря на то, что автора давно уже нет на свете: умер 3 марта 1985 года.
И добавлю. Иосиф Самуилович не просто возобновил знакомство с Сахаровым, но выступил против академиков, подписавших письмо, которое призывало к расправе над инакомыслящим Андреем Дмитриевичем. Шкловскому это не простили. Он так и не стал академиком, хотя был одним из самых крупных астрономов, живущих тогда в мире. Он получал массу приглашений из академий и университетов разных стран: прочитать лекции, вести семинары. Но власти его сделали невыездным.
Выезжал, когда отказать уже было нельзя. И то извещали его о разрешении накануне. Чтобы не успел собраться. Чтобы собирался наспех.
Но Иосиф Самуилович не унывал. Он знал, на что шёл. И не хотел меняться кому-либо в угоду. Воистину настоящий друг академика Сахарова!
2 ИЮЛЯ
Самое муторное, что было в моей работе в «Литературной газете» – это рецензии, которые требует заказать начальство на книги, какие никто не возьмётся читать в силу, как говаривал в таких случаях Зощенко, их маловысокохудожественности. Начальство знает об их качестве, но требует, потому что от него требуют, на него давят. Оно согласно не обращать внимания на уровень рецензии, лишь бы была грамотно написана, лишь бы вообще была! Но где её возьмёшь? Иногда отказываются писать даже те, кто обычно ни от чего не отказывается, кто рад, что лишний раз появится в газете его фамилия, рад гонорару. А тут – ни в какую! Даже под псевдонимом!
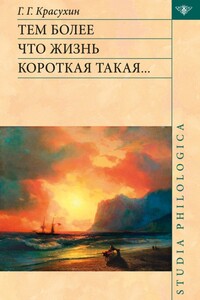
Это наиболее полные биографические заметки автора, в которых он подводит итог собственной жизни. Почти полвека он работал в печати, в том числе много лет в знаменитой «Литературной газете» конца 1960-х – начала 1990-х годов. Четверть века преподавал, в частности в Литературном институте. Нередко совмещал то и другое: журналистику с преподаванием. На страницах книги вы встретитесь с известными литераторами, почувствуете дух времени, которое видоизменялось в зависимости от типа государства, утверждавшегося в нашей стране.
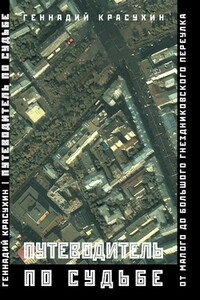
Новая книга воспоминаний Геннадия Красухина сочетает в себе рассказ о литературных нравах недавнего прошлого с увлекательным повествованием о тех кусочках старой Москвы, с которыми автора надолго связала судьба.Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.
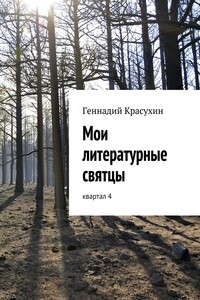
Автор этой книги потому и обратился к форме литературного календаря, что практически всю жизнь работал в литературе: больше 40 лет в печатных изданиях, четверть века преподавал на вузовской кафедре русской литературы. Разумеется, это сказалось на содержании книги, которая, сохраняя биографические данные её героев, подчас обрисовывает их в свете приглядных или неприглядных жизненных эпизодов. Тем более это нетрудно было сделать автору, что со многими литераторами он был знаком.
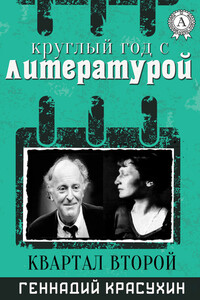
Больше сорока лет автор работал в литературной печати. Из них 27 лет с 1967 по 1995 в «Литературной газете», которую вместе с другими своими коллегами начинал как шестнадцатиполосное издание, какое в то время обрело бешеную популярность. 12 лет – с 1992 по 2006 автор возглавлял газету для учителей «Литература» Издательского дома «Первое сентября». Доводилось работать автору и редактором сценарной коллегии Государственного Комитета по кинематографии СССР, входить в редакционную коллегию журнала «Вопросы литературы.
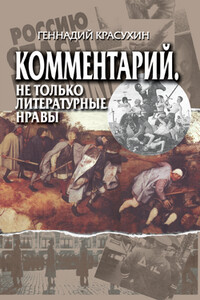
Новые мемуары Геннадия Красухина написаны как комментарий к одному стихотворению. Что это за стихотворение и почему его строки определили построение книги, читатель узнает на первых страницах. А каким образом долгая работа в «Литературной газете» и в других изданиях, знакомство с известными писателями, воспоминания и размышления о вчерашней и сегодняшней жизни переплетаются с мотивами стихотворения, автор которого годится автору книги во внуки, раскрывает каждая её глава.Дневниковая основа мемуаров потребовала завершить рассказ о происходящем, каким оно сложилось к 9 декабря 2006 года, когда в книге была поставлена точка.
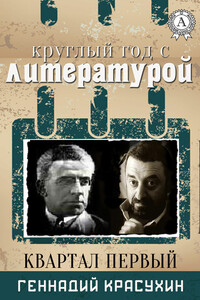
Автор этой книги, как и трёх остальных, представляющих собою кварталы года, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей с 1972 года и Союза журналистов с 1969-го. Перед вами литературный календарь. Рассчитанный не только на любителей литературы, но и на тех, кто любит такие жанры, как мемуаристика, как научно-популярные биографии писателей, типа тех, что издаются в серии «Жизнь замечательных людей». Естественно, что многих, о ком здесь написано, автор знал лично. И это обстоятельство сообщило календарным заметкам отчасти мемуарный характер.

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.
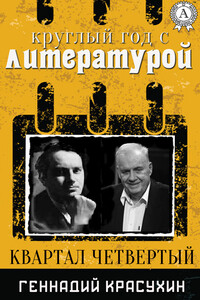
Работая редактором литературных изданий и занимаясь литературным преподаванием, автор вынашивал замысел о некой занимательной литературной энциклопедии, которая была бы интересна и ценителям литературы, и её читателям. Отчасти он воплотил этот замысел в этой книге-литературном календаре, в календарных заметках, которые вобрали в себя время – от древности до наших дней. Автор полагает, что читатель обратит внимание на то, как менялись со временем литературные пристрастия, как великие открытия в литературе подчиняли себе своё время и открывали путь к новым свершениям, новым открытиям, – дорогу, по которой идёт и нынешняя литература и будет идти литература будущего.