Крокозябры - [25]
Фигня моя стала заполняться с бешеной скоростью, здешние благородные лица попали в нее почти полным списком, и я не замечала ехидной правоты Злыдни: все это были «жертвы». Впрочем, настоящими жертвами они стали становиться очень скоро, молодые и талантливые, они вдруг один за одним начали умирать: самоубийство, автокатастрофа, лейкемия, овердоза, авиакатастрофа — просто какие-то вести с фронтов.
Я не замечала не только вульгарной правоты Злыдни (что она могла понимать в Тряске?), но и другого факта, который, не окажись я в перманентном трясении, не ускользнул бы от моего внимания. И тогда, может, все пошло бы по-другому. Но он ускользнул. Если б голова не кружилась, я могла бы задуматься ею, каким образом Фигня, в которую вписывались все новые и новые имена, не переполнялась? И те, кто кружились в хороводе Тряски, непринужденно вписывались в мою жизнь и бесследно выписывались из нее. Память не работала с архивами, умещая в себя массу мегабайт настоящего и еще больше пространства на диске оставляла для будущего. Оно казалось либо ужасным, либо прекрасным, пан или пропал.
Тряска помогла Другу избавиться от Злыдни, а потом и от веселой подруги, чтоб отправиться в дальнее плавание. Когда Бытия нет, плавание — самое естественное занятие. Доплыв до какого-то далекого острова, он так на нем и осел, потому что очень уж тяготился переменами. Я не заметила, как его имя исчезло из Фигни. А Злыдня, от горя впавшая в совершенное слабоумие, обвинила во всем опять же не подругу и не Тряску, а меня. Дура. Я же разве тогда могла предположить, что ад может настигнуть любого, меня в том числе? Предыдущий опыт говорил мне, что ад — это другие. Мой Тайный, вписанный в Фигню первым, в силу солидности своего нутра не выдерживал обрушившихся ритмов и стал видеться мне все более смазанным, как на картинах экспрессионистов, а затем и вовсе превратился в абстрактную живопись. Впрочем, для окружающих тайнопись наших отношений, вероятно, была явной, ну не станет же уважаемый человек просто так каждый день распивать чаи в клубном кафе с юной особой, путаясь при посторонних между «вы» и «ты», и значит, дошло это и до его жены. По условиям игры узнавание женой этого беспрецедентного в ее семейной жизни явления означало бы кровопролитие. Судя по тому, что кровь полилась по холмам бывшей империи ручьями, она узнала.
Имя Тайного пока оставалось в Фигне, но побледнело на фоне тех, кто прописывался в ней теперь законно, на родной латинице. С этим контингентом, хлынувшим в наши пенаты, никаких «жертв» быть не могло. Такое у меня выработалось за долгие годы на советской цепи предубеждение: с латиноязычными если что — век воли не видать, в том смысле, что придется иметь дело с конторой глубокого бурения. А бурения ни под каким видом не хотелось, хотелось, наоборот — свободного полета в теплые края. Свободного, подчеркиваю, чтоб ни ножка, ни ручка не были окольцованы. Это был такой особый вид гордости, феминистический возможно, но суть заключалась в другом: я, житель задницы, дикарского племени, зоны тотального уродства, не должна к христианам, выполненным в качественном дизайне, источающим парфюм имени великого человека Диора, пристраиваться. Я не пара им, я бедная родственница, хоть и разговариваю языком Толстого и Достоевского (хотя лично я разговаривала языком Набокова и Бродского), но все это было фигней: государство, членом которого я волей или неволей состояла, говорило на волапюке, расцвеченном плохими, или, как это называлось, ассонансными, рифмами Евтушенко.
А гордость состояла в том, что я могла только как равный с равным. Со всеми, исключений не было: я не умела обращаться с детьми и животными, потому что они на мое «как с равным» отвечали: дети — ором, собаки — писаньем по всей квартире, а поганые совки — ненавистью. Христиане признавали во мне свою, ибо это и был один из христианских мотивов — как с равным, но мне еще предстояло снять с себя печать тотального уродства — оно было забавным, конечно, как теперь некоторым кажутся забавными дикие горцы и верблюжатники с их каракулевыми шапками, «клетчатыми кухонными полотенцами на головах» (цитирую Мишеля Уэльбека) и жестокими нравами.
Противоречие, конечно, присутствовало в том, что, обращаясь с другими как с собственным отражением, я помещала сюда гордыню, от которой особо предостерегал основоположник нашей (теперь я уже легко говорю «нашей») цивилизации. В общем, изъяснявшиеся на латинице, сразу попадали у меня в графу «дружба», а в Фигне они уверенно вытеснили кириллицеобразных аборигенов. И я опять не заметила, что аборигены — целая моя жизнь, любовно выстроенная вместе со всеми моими замечательными товарищами, товарищами в прямом, не волапюковском смысле, как город в городе, как башня из слоновой кости (ну пусть не из слоновой, а из какой было — из козлиной, из кости трагоса, козла, по-древнегречески), — сгинули из малиновой книжицы, будто вписаны были туда симпатическими чернилами.
Один из многочисленных встреченных мною соотечественников — таковыми я воспринимала сиявших, как драгоценные камушки, христиан, иначе — жителей Запада, — сказал, что считает нашу страну Трагедистаном. Это было сказано метко. Можно было перевести и как «азиатская страна (стан) козлов (трагосов)», но такой перевод тогда не мог прийти мне в голову, я слишком серьезно воспринимала великую Россию, которой предстоит возродиться, великую себя в ней, великий и могучий язык, великий трагический народ, выделяющий из себя кучку мерзавцев в качестве власти над собой. Народ, который не может любить в качестве высшего управителя и судии не мерзавца, который лишь мерзавцу согласен отдаться в полное его распоряжение. А я разве не такая же? Я держалась не дрогнув, не признавая никакой власти над собой, мужской в том числе, но едва оказавшись в свободном полете, то есть едва расслабившись, я именно этому сладостному чувству и отдалась: я стала рабыней мерзавца, я боготворила его и готова была отречься от Христа. Даже не заметила, как отреклась. И только тогда я всеми фибрами прочувствовала свою национальную принадлежность. Как же я не подумала раньше, что трагизм русского народа в том, что его Бог (поскольку властители — наместники Бога, Его ипостаси для каждого данного народа) — злой. Он дает богатство нечестивым, он бьет палками и сгнаивает в застенках добрых и честных людей, он отупляет их разум

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга для читателя, который возможно слегка утомился от книг о троллях, маньяках, супергероях и прочих существах, плавно перекочевавших из детской литературы во взрослую. Для тех, кто хочет, возможно, просто прочитать о людях, которые живут рядом, и они, ни с того ни с сего, просто, упс, и нормальные. Простая ироничная история о любви не очень талантливого художника и журналистки. История, в которой мало что изменилось со времен «Анны Карениной».
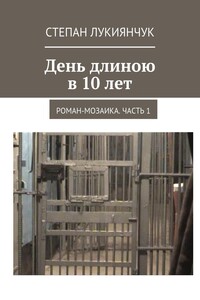
Проблематика в обозначении времени вынесена в заглавие-парадокс. Это необычное использование словосочетания — день не тянется, он вобрал в себя целых 10 лет, за день с героем успевают произойти самые насыщенные события, несмотря на их кажущуюся обыденность. Атрибутика несвободы — лишь в окружающих преградах (колючая проволока, камеры, плац), на самом же деле — герой Николай свободен (в мыслях, погружениях в иллюзорный мир). Мысли — самый первый и самый главный рычаг в достижении цели!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.
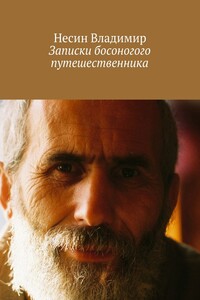
С Владимиром мы познакомились в Мурманске. Он ехал в автобусе, с большим рюкзаком и… босой. Люди с интересом поглядывали на необычного пассажира, но начать разговор не решались. Мы первыми нарушили молчание: «Простите, а это Вы, тот самый путешественник, который путешествует без обуви?». Он для верности оглядел себя и утвердительно кивнул: «Да, это я». Поразили его глаза и улыбка, очень добрые, будто взглянул на тебя ангел с иконы… Панфилова Екатерина, редактор.

Алиса Ганиева – молодой, но уже очень известный прозаик и эссеист. Её первая повесть «Салам тебе, Далгат!» удостоилась премии «Дебют», а роман «Праздничная гора», рассказ «Шайтаны» и очерки из дагестанской жизни покорили читателей сочностью описаний и экзотическими подробностями.Молодые герои, ровесники автора, хотят жить и любить свободно. Но знаменитый вольный дух Кавказа ограничивают новомодные религиозные веяния, а быт наполнился раздражающими «западными» условностями.Чувства персонажей подвергаются самым неожиданным испытаниям…

В новом романе «Завидное чувство Веры Стениной» рассказывается история женской дружбы-вражды. Вера, искусствовед, мать-одиночка, постоянно завидует своей подруге Юльке. Юльке же всегда везет, и она никому не завидует, а могла бы, ведь Вера обладает уникальным даром — по-особому чувствовать живопись: она разговаривает с портретами, ощущает аромат нарисованных цветов и слышит музыку, которую играют изображенные на картинах артисты…Роман многослоен: анатомия зависти, соединение западноевропейской традиции с русской ментальностью, легкий детективный акцент и — в полный голос — гимн искусству и красоте.

Гузель Яхина родилась и выросла в Казани, окончила факультет иностранных языков, учится на сценарном факультете Московской школы кино. Публиковалась в журналах «Нева», «Сибирские огни», «Октябрь».Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь.Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь.Всем раскулаченным и переселенным посвящается.

Марина Степнова — прозаик, переводчик с румынского. Ее роман «Хирург» (лонг-лист премии «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР») сравнивали с «Парфюмером» П. Зюскинда.Новый роман «Женщины Лазаря» — необычная семейная сага от начала века до наших дней. Это роман о большой ЛЮБВИ и большой НЕЛЮБВИ. Лазарь Линдт, гениальный ученый, «беззаконная комета в кругу расчисленных светил», — центр инфернальных личных историй трех незаурядных женщин. Бездетную Марусю, жену его старшего друга, смешной юноша полюбит совсем не сыновней любовью, но это останется его тайной.
