Крокодил - [4]
Петрович, детина лет тридцати пяти, смуглый и мужественный, принялся рассматривать ложку.
– Давать ли денег Петровичу? – продолжал Крокодил.
После некоторого молчания один из десятников спросил:
– А много ли?
– Это чего-с?
– Денег-то много ли, Сазон Психеич?
– Денег две десятки.
Опять наступило молчание.
– Оно, конечно, – произнес один из соседей Крокодила, – оно отчего не дать… – Он крякнул. – Оно дело удобное… Только вот по кабакам, ежели…
Петрович вдруг бросил ложку и обратил смущенное лицо к Крокодилу.
– Что ж, по кабакам, – заторопился он, – я разве что говорю… Я зашел в кабак. Ну, положи мне за это… Я не сто… Я ведь прямо говорю: хоть сейчас…Но только матушка ни в чем тут не повинна.
Крокодил подумал.
– Ну хорошо, Петров, – наконец сурово произнес он, – деньги я матери пошлю… Это пошлю. А уж поучить тебя надо… надо. Вот ужо поучите его, ребята. Слегка, а поучите.
Петрович немного побледнел и осунулся. Все стали есть кашу, и ели с какой-то серьезной сосредоточенностью.
– Вот тоже с Ефимкой что нам делать? – сказал десятник.
– А что?
– Цыгарки курит.
Крокодил снова подумал, но, подумавши, ничего не ответил. Десятник прискорбно вздохнул. После обеда Крокодил помолился и сел в сторонке. Плотники в глубоком молчании выходили из-за стола, медленно крестились на икону и, степенно подходя к Крокодилу, отвешивали ему низкий поклон. Когда эта процедура была кончена, Крокодил вздохнул и произнес:
– Ефим!
К нему подбежал молодой малый, еще без малейшего признака пуха на бороде.
– Ты что же это, Ефим, цыгарки куришь? – спросил его Крокодил.
Тот повалился в ноги.
– Сазон Психеич!.. Век не буду! – молил он.
Крокодил отстранил одну ногу, вероятно для того, чтобы Ефимке удобнее было валяться по земле, и несколько минут равнодушно смотрел на него.
– Ежели простить его на первый раз, – вопросительно произнес он, ежели теперь простить его, а в другой – выпороть?
Все молчали.
– Егорыч, потряси-ка его за виски! – сказал Крокодил.
Десятник усердно вцепился в Ефимкину голову и пребольно оттрепал его. После трепки Ефимка снова поклонился в ноги Крокодилу и, сдерживая слезы, скрылся в толпе. Там его встретили осторожным хихиканием.
– Ну, ступайте, я сосну малость, – вымолвил Крокодил, и плотники тихою гурьбою вышли из избы. Остались десятник Егорыч и я.
– Мы в пятницу Фому пороли, – кратко заявил Егорыч.
Крокодил зевнул.
– Скверным словом выругался, – продолжал Егорыч.
– Что ж, это хорошо, – лениво отозвался Крокодил, преодолевая новый зевок.
Я простился и ушел. Вслед за мной пошел и Егорыч.
– Почитаете вы Сазона Психеича, – сказал я.
– Отец!.. – с чувством ответил Егорыч. – Мы с ним свет увидели. Теперь ведь против наших артельных порядков хоть всю Рязань обойди, – не найдешь. Что насчет строгости, что насчет чести… Нас ведь и господа помещики за это уважают. Лишние деньги платят!
– А много, пожалуй, наживает от вас Сазон Психеич?
– Как, поди, не наживать. Наживает, – хладнокровно произнес Егорыч.
Вечером пришел Крокодил. Свечей еще не зажигали. Он прошел тяжелой поступью в зал и смолк. Мы с Петром Петровичем сидели в кабинете; Олимпиада Петровна суетилась по хозяйству.
– Что он теперь делает? – сказал я, входя в положение Крокодила, оставленного в пустынном зале.
– А спит небось, чего же ему еще делать! – пренебрежительно произнес Петр Петрович.
Но чрез несколько мгновений робкий звук рояля достиг до нас.
Батеев прыснул.
– Ведь это Крокодил играет! – воскликнул он.
Мы тихо подошли к дверям зала. Действительно, неуклюжая и тучная фигура Крокодила виднелась за роялью. Указательным пальцем заскорузлой руки он странствовал по клавиатуре и, видимо, подбирал ноты. Я прислушался: было некоторое сходство с «Лучинушкой». Но часто верный звук сопровождался ужаснейшим диссонансом, и тогда Крокодил тяжко вздыхал.
Принесли свечи, и мы вошли. Крокодил конфузливо поднялся из-за рояля и, отираясь гремящим своим платком, опустился на стул.
– Любишь? – спросил Батеев, указывая на рояль.
– Штука важная, – ответил Крокодил и улыбнулся.
– Ну, погоди, барыня придет. Она тебя утешит.
Мы вступили в посторонние разговоры. Крокодил упорно молчал и потел. Я его попробовал втянуть в разговор. Это оказалось положительно невозможным: он путался и не понимал самых простейших вещей. Часто отвечал совершенно невпопад и, видимо, страдал. Тогда мы его оставили в покое.
– Где же будет барыня? – спросил он немного спустя и покосился на рояль.
– Придет, придет.
Действительно, Олимпиада Петровна скоро присоединилась к нам. Она с достоинством заявила, что отвешивала провизию для рабочих.
– Говядинку-то получше давайте! – вымолвил Крокодил.
Олимпиада Петровна ничего на это не ответила. Тогда Петр Петрович со смехом заявил ей о меломанстве Крокодила. Это и в ней возбудило веселость. Она села за рояль и разразилась шумными solfedgio[1]. Лицо Сазона Психеича преобразилось. В глазах засветилось живое и теплое участие. Он подсел к Олимпиаде Петровне и в наивном восхищении смотрел на ее руки. Она заиграла из «Жизни за царя»>{2}, затем из «Фауста», из «Тангейзера»>{3}. Крокодил слушал, не меняя позы и выражения. Только пухлое лицо его, казалось, все более и более светлело и вместе с тем переполнялось какой-то странной привлекательностью. Наконец Олимпиада Петровна заиграла «Не белы-то снежки». Крокодил не утерпел: как-то странно шевельнув носом, он всхлипнул и в умилении произнес:

Рассказы «Записки Cтепняка» принесли большой литературных успех их автору, русскому писателю Александру Эртелю. В них он с глубоким сочувствием показаны страдания бедных крестьян, которые гибнут от голода, болезней и каторжного труда.В фигурные скобки { } здесь помещены номера страниц (окончания) издания-оригинала. В электронное издание помещен очерк И. А. Бунина "Эртель", отсутствующий в оригинальном издании.

«И стал с этих пор скучать Ермил. Возьмет ли метлу в руки, примется ли жеребца хозяйского чистить; начнет ли сугробы сгребать – не лежит его душа к работе. Поужинает, заляжет спать на печь, и тепло ему и сытно, а не спокойно у него в мыслях. Представляется ему – едут они с купцом по дороге, поле белое, небо белое; полозья визжат, вешки по сторонам натыканы, а купец запахнул шубу, и из-за шубы бумажник у него оттопырился. Люди храп подымут, на дворе петухи закричат, в соборе к утрене ударят, а Ермил все вертится с бока на бок.

«– А поедемте-ка мы с вами в Криворожье, – сказал мне однажды сосед мой, Семен Андреич Гундриков, – есть там у меня мельник знакомый, человек, я вам скажу, скотоподобнейший! Так вот к мельнику к этому…».

«Есть у меня статский советник знакомый. Имя ему громкое – Гермоген; фамилия – даже историческая в некотором роде – Пожарский. Ко всему к этому, он крупный помещик и, как сам говорит, до самоотвержения любит мужичка.О, любовь эта причинила много хлопот статскому советнику Гермогену…».

«Мужик допахал полосу; перевернул кверху сошниками соху, посмотрел из-под руки на закат, обратясь к востоку медленно и размашисто перекрестился, ласково огладил тяжело дышавшую кобылу, и, с усилием взвалившись на нее верхом, поехал по меже к поселку…».

«С шестьдесят первого года нелюдимость Аристарха Алексеича перешла даже в некоторую мрачность. Он почему-то возмечтал, напустил на себя великую важность и спесь, за что и получил от соседних мужиков прозвание «барина Листарки»…

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
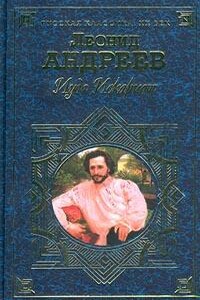
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.