Красные щиты. Мать Иоанна от ангелов - [6]
3
Тем временем князь Генрих вошел вслед за сестрой в келью, и они молча сели друг против друга. Юноша внимательно вглядывался в лицо сестры; он искал в чуть расплывшихся чертах молодой женщины то девичье, почти детское изящество, которое запомнилось ему при их прощании. Четырнадцатилетнюю Гертруду тогда, сразу после смерти отца, отправили из Ленчицы с присланными за ней монахинями в обитель, где настоятельницей была сестра княгини Саломеи. Князь долго смотрел на сестру и нашел наконец в ее погрубевшем лице то, чего ему хотелось. Не черты девочки-подростка, нет, а сходство с матерью, и вдруг ему представилась мать, невысокая, подвижная, изящная женщина, гибкая и стройная, хотя часто бывала беременна. Он увидел ее худощавое лицо, породистый орлиный нос, серьезные, а после кончины отца всегда грустные, глаза — она осталась вдовой с целой оравой детей на руках. Гертруда, то смеясь, то успокаиваясь, то утирая слезы, тоже смотрела на брата.
— Если б ты только знал, как Ортлиб красиво все описал: и как он с Оттоном был у матери, и о чем договорились, а потом как проходил сейм в Ленчице да кто там был, и о Болеславе писал, и о Мешко…
— Полно тебе! — сказал князь. — Ведь с тех пор прошло одиннадцать лет.
— Верно, — сказала Гертруда и опустила руки на колени. — Я об этом не подумала. Но, знаешь, вести от вас приходили так редко. Рассказывай же, что там нового? Что слышно в Ленчице, в Плоцке, в Кракове? Да, а в Познани…
Она запнулась и погрустнела. По ее лицу князь сразу понял, что она не хочет его огорчать: возможно, из-за связей с двором кесаря она сочувствовала брату Владиславу и боялась сказать что-нибудь обидное для младшего брата.
— Да что ж это я? — спохватилась Гертруда. — Такой гость у нас…
И снова смущенно умолкла, добрая, милая толстушка. Генрих улыбнулся, встал и, взяв в ладони обе ее руки, горячо их поцеловал. Гертруда, покраснев от радости, чмокнула брата в лоб.
— Ты похожа на мать, — сказал Генрих. — Очень похожа.
— В самом деле? — с явным удовольствием спросила сестра. — А на отца нет?
— Сдается мне, рука у тебя крепкая, как у отца, — сказал Генрих и похлопал монахиню по плечу. Она опять засмеялась.
— Знала бы ты, зачем я сюда приехал! — сказал князь и, немного помолчав, прибавил: — Да я, собственно, и сам не знаю зачем. Приехал как заложник{6}, но, надеюсь, здесь я все узнаю. Ортлиб здесь?
— Да, и мейстер Ортлиб, и Оттон.
— Чудесно, съехались все, кто мне нужен. Нам надо о многом посоветоваться, пока кесарь не выступил на братьев.
— Похоже, и не выступит. Лежит больной, еле дышит. Схватил в Иерусалиме лихорадку, совсем недавно вернулся в Бамберг и вот — лежит. Ох, думается мне, скоро будут избирать нового государя.
Гертруда обтерла лицо платком, скорбно, по-монашески вздохнула, и тут только князь вспомнил, что перед ним особа духовного звания, инокиня.
Ему было любопытно, о каком сейме упомянула Гертруда. Оттон и Ортлиб здесь, стало быть, путешествие его не напрасно. Но расспрашивать-не хотелось — перед глазами еще стояли горные пейзажи и зеленое озеро, в ушах звучали песенки Тэли и крики чаек над озером.
Князь смотрел на Гертруду, слушал речи смиренной инокини и думал о том, какое место заняла эта неблагодарная дочь княгини Саломеи в споре между братьями. Гертруду еще в детстве отдали ко двору Владислава и Агнессы, с тех пор и началась их дружба. Из всех детей Саломеи лишь она была близка с соперницей своей матери{7}. Конечно, теперь Агнесса живет либо в Бамберге, либо в своем замке в Саксонии, но, должно быть, они с Гертрудой часто видятся. Его подозрения укрепились, когда он услыхал, что единственная дочь Агнессы, Рихенца, недавно помолвленная с королем Испании, тоже гостит в Цвифальтене, ожидая здесь послов от своего супруга, которые выехали из далекого Леона за юной избранницей немолодого Альфонса{8}.
— Ты, верно, уже заметил ее, — прибавила Гертруда. — Хохотунья, по всему монастырю слышно ее смех, прелестная девушка и на княгиню Агнессу ничуть не похожа.
Князю пора было отдохнуть с дороги. У Гертруды, которая принесла в монастырь большой вклад и жила здесь с подобающей княжне роскошью, были свои особые покои и даже своя прислуга — старая нянька, вывезенная из Польши. Она могла принять брата как подобает: князю был отведен отдельный покой, а его слугам — горница по соседству. Генрих с изумлением осматривал просторное помещение, толстые каменные стены. Большое окно с красиво расписанными ставнями было распахнуто настежь: видны были горы и небо, свободно проникал свежий горный воздух. Пожалуй, только во Вроцлаве князь видел такие великолепные здания, в Плоцке, в Ленчице, в Познани все выглядело куда бедней, не говоря уж о Сандомире, городе торговом и богатом, но еще никогда не бывавшем столицей княжества.
Он, Генрих, будет первым князем этого города, скоро начнет там править. Мог бы и сейчас править — Болеслав давно разрешил ему ехать в наследное владение, но Генриху хотелось сперва побывать в Плоцке, в Кракове и вообще поездить по свету. Только что Гертруда вспоминала Плоцк, Ленчицу, свадьбу Болеслава. Помнит ли он? О да, и никогда в жизни не забудет. Ему тогда было шесть лет, совсем малыш, и Болеслав, которому недавно минуло тринадцать, казался ему взрослым, настоящим рыцарем. Ведь отец ударил Болеслава мечом, по французскому обычаю, так же, как дед посвящал в рыцари отца. Болеслав, отец и еще множество народу стояли посреди большой палаты плоцкого замка; мать держала малышей перед собой, чтобы в толчее их не ушибли. Юдитка орала благим матом — отец даже дернул себя за ус на кривой верхней губе и приказал нянькам унести ее. А потом вошли русские бояре в шубах и в золоте, в овчинных тулупах и шапках, от которых шел такой тяжкий дух, что княгиня Саломея то и дело прикрывала нос длинным, свисавшим до полу рукавом узорчатого платья. За боярами следовали сенные девушки будущей княгини, одетые по русскому обычаю, как монашки, в черное, с черными платками на головах и со свечами, будто на похороны собрались. Между этими черными монашками шла княжна — невеста Болеслава. На ней тоже было одеяние монахини, только белое. Оробевшая и удивленная тем, что ее не ведут под руки, она ступала очень медленно; хрупкая, почти детская фигурка тонула в белых складках, а глаза у нее были большие, лучистые. На руках у княжны алели красные сафьяновые перчатки с вышивкой по краю, как у епископа, и с крестом на тыльной стороне ладони. С минуту она шла, глядя в одну точку, словно завороженная — вся белая, с красными, как у палача, руками. Такой и запечатлелась она в памяти мальчика, Верхослава
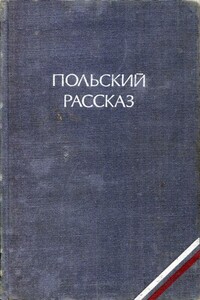
В антологию включены избранные рассказы, которые были созданы в народной Польше за тридцать лет и отразили в своем художественном многообразии как насущные проблемы и яркие картины социалистического строительства и воспитания нового человека, так и осмысление исторического и историко-культурного опыта, в особенности испытаний военных лет. Среди десятков авторов, каждый из которых представлен одним своим рассказом, люди всех поколений — от тех, кто прошел большой жизненный и творческий путь и является гордостью национальной литературы, и вплоть до выросших при народной власти и составивших себе писательское имя в самое последнее время.
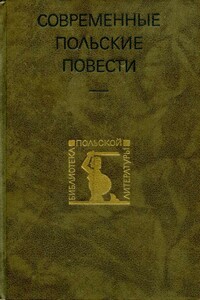
В сборник включены разнообразные по тематике произведения крупных современных писателей ПНР — Я. Ивашкевича, З. Сафьяна. Ст. Лема, Е. Путрамента и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
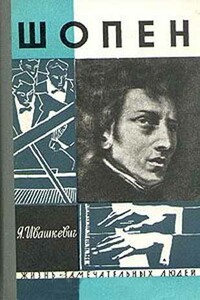
Шопен (Chopin) Фридерик Францишек [22.2 (по др. сведениям, 1.3).1810, Желязова Воля, близ Варшавы, — 17.10.1849, Париж], польский композитор и пианист. Сын французского эмигранта Никола Ш., участника Польского восстания 1794, и польки Ю. Кшижановской. Первые уроки игры на фортепьяно получил у сестры — Людвики Ш. С 1816 учился у чешского пианиста и композитора В. Живного в Варшаве. Пианистическое и композиторское дарование Ш. проявил очень рано: в 1817 написал 2 полонеза в духе М. К. Огиньского, в 1818 впервые выступил публично.
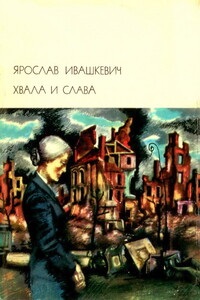
В данный том вошло окончание романа Ярослава Ивашкевича "Хвала и слава".Перевод Ю. Абызова, В. Раковской, М. Игнатова. А. Ермонского.Примечания Б. Стахеева.Иллюстрации Б. Алимова.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
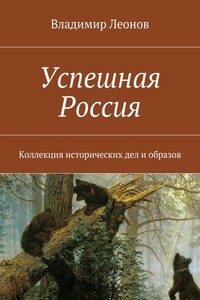
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».
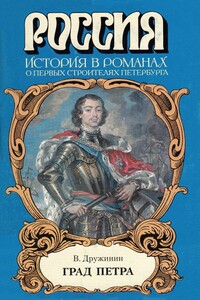
«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.
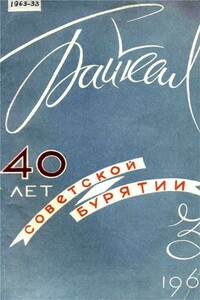
Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
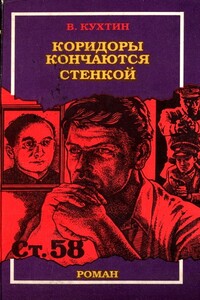
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.
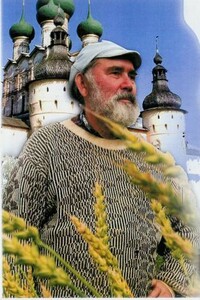
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.