Король Королевской избушки - [14]
— Ну как, — спрашивает эвенк о том, что его заботит, — справишься один с таким длинным путиком?
— Человек всегда на кого-то надеется. Не удивительно, что он надеется на самого себя, если у него нет никого… — отвечает он.
Костер гаснет, дрова кончились, а одной иллюзии, что ты костер, надолго ли хватит? Холод, как непригодная для постели женщина, подбирается ближе, пыл разговора остывает. Он как следует заматывает ноги в солдатское одеяло и забирается в мешок.
Он смотрит на часы: уже за полночь.
— Сколько? — спрашивает эвенк.
— За полночь, — отвечает он.
— Скоро надо будет вставать, — говорит эвенк, — если у нас вдруг появится желание пойти на болото.
— Об этом мы не говорили, — напоминает он.
— Зато гуси говорили, аж охрипли… Слушай!
Они замолкают.
С дальних бочагов доносится прерывистое га-га-га, будто согласное со всем басовитое да-да-да.
— Ишь ты, — говорит эвенк, — они даже с этим согласны.
— Такого почти не бывает, чтоб они с чем-то не были согласны, — говорит он.
— Но есть-то их все равно можно, — вон куда гнет Тавим.
— У тебя, Тавим, живот — пуп земли.
— Значит, сколько животов, столько и пупов земли.
— Не совсем так, но каждый, наверно, ищет что-то такое, что, на его взгляд, могло бы стать пупом земли.
— А на твой взгляд, ты что ищешь? — спрашивает эвенк.
— Я все время ищу, хотя ничего не терял, — отвечает он уклончиво.
— Странно, — замечает эвенк. — Но у тебя хоть есть надежда это найти?
— Кто знает… У меня ворох надежд. Чего угодно может не быть, а надежда должна быть.
— А то как же, все надеются.
— Это как раз та возможность, которой все пользуются.
— Выходит, надежда — это пуп земли для всех и для каждого.
— Выходит так, ничем иным она, видно, и быть не может.
Итак, найден полюс, к которому меридианами сходятся все мысли эвенка. Вскоре трубка выпадает из его рта…
Короткий охотничий сон смаривает и его… У него такое чувство, будто узкая рука рассвета приоткрывает дверь, которую он не смог бы открыть. Без стука, плечом вперед он входит в зеленовато-белесое пространство.
II Краски тишины
В спектре тишины царят четыре краски. И бесчисленное множество оттенков в зависимости от времени года и перемен погоды.
Весенняя тишина — нежно-зеленая огненная стена, вздымающаяся везде и повсюду. И чтоб стоять в этом пламени, не нужно быть ни героем, ни великомучеником.
Зрело-зеленая тишина позднего лета. В полдень не шевельнет она и паучьей пряжи — пряжу жизни к вечеру слегка поколеблет.
Тускло-желтая тишина осени — стерегущая покой раненой осины с окровавленной верхушкой.
И бледно-синяя тишина зимы, в которую падают звезды неба и звезды снега.
Мои упрямые колени сейчас гибче, чем когда-либо раньше, — сгибаются сразу и в нужном месте. Коленные чашечки погружаются в торфяной мох на краю ручья. Но я не тороплюсь пить. Смакую жажду пересохшим горлом, чтобы мгновение спустя насладиться вдвойне. Ну вот. Опускаюсь на руки. Под каждой ладонью гладкий камень, давно ждавший этого прикосновения. Два прохладных каменных бугорка под каждой ладонью. Линия воды тут же, возле распустившихся бутонов ладоней. По моим дубленым, в светлых шрамах, рукам струится вода, обжигающая, как лезвие топора зимой. Мой пылающий торс тяжело нависает над ручьем. Потревоженная поверхность воды отсвечивает, покачиваясь вверх-вниз, — падающее зеркало. То ловит четвертушку солнца и кусочек взбитого облака, то отсекает верхушку еловой пирамиды, будто у кого-то головокружение. Я пью пресноватую воду ручья. Я могу пить много и долго. Ручей — мой друг. Я напитываю влагой засушливое поле моего тела. За это мне ничего не нужно платить. Свою душу я пою тишиной. За это мне придется платить одиночеством. Но сомнений я не испытываю. Все-таки это лучше — одиночество вдвоем, чем среди миллионов.
Горло ломит от ледяной воды. Я вытаскиваю из ручья свои безобразно широкие, как камбалы, руки. Но они уже привыкли — то ли руки к камням, то ли камни к рукам. Крапчатые, теплые камни будто яйца поднятой с гнезда тетерки. Взвешиваю их на руках, эти теплые яйца. Нет, все-таки камни… Жалко их бросать.
Раз уж я полон воды, как набухшая туча, не пристало мне стоять перед ручьем на коленях. Сейчас встану, надо только решиться уйти. Жаркий день совсем меня доконал. Я как отощавший олень ранней весной. При ходьбе локти цепляют за ребра. Ключицы дугой выпирают вперед, натяни сухожилие — и лук готов. Моя грудь — гудящий тотемный тамтам, из которого дожди извлекают ритмы. У меня длинные, узловатые руки с мозолистыми ладонями. Я угловатый и неправильный. Если бы кому-нибудь вздумалось обрядить меня в новый костюм, то примерку пришлось бы делать на бревне. Топорная работа — это скажет любой, кто еще не отсидел глаза. Таким я гожусь только для тайги. Впрочем, не скрою, порой хочется прочь отсюда. С каждым может такое случиться: прочь отсюда!
Свое лицо я знаю хуже, вижу его реже. Не из кокетства. Просто нет необходимости хорошо выглядеть, порядочным выглядеть. Меня устраивает и то, кем я выгляжу, и то, кем не выгляжу. Мои отношения с зеркалом случайны. Когда бреюсь или когда вынимаю соринку из глаза. Чаще я вижу свое лицо в остекленевших глазах зверя. Или, припав к воде, вижу его кленовым листом, колышущимся в глубине. Как вот сейчас у этого ручья, отшлифованного тишиной. Но лицо в зеркале воды не всегда бывает моим. Иногда оно принадлежит тому, с кем у нас одна судьба на двоих. Но и ему я не позволю над собой насмехаться. Так-то… Похоже, он начинает принимать меня всерьез и уже не скалится. Этот обрамленный ландшафт лица в воде — скорее какое-то потустороннее видение. Нос — колонна, искривленная под тяжестью упрямого лба. Скулы — лодочные шпангоуты, обтянутые коричневой дубленой кожей. Зубы крепки, как у зверя. Порог губ не стерт от слов. Волосы, прорастая сквозь шапку, щекочут красный живот солнца. По ту сторону глаз идет вниз сумеречная лестница, ступенькам которой не дано запылиться. Владения его помыслов обширней моих, его способности превосходят мои… Например, он может воду крутить на кончике пальца, пока она не высохнет. Он ничего не имеет в виду. Но ничего и не выпускает из виду. У него нет никакой цели. И тем не менее он целеустремлен. Его пути-дороги не отмечены ни в одном справочнике, ни в одном путеводителе. Были бы только ноги, а дороги никогда не кончатся! Кажется, свою силу он черпает из ничего. Как и власть управлять движениями моей души и моего тела. Я завидую ему порой. Хотя знаю, что такого рода зависть доступна и моей собаке, когда она следит за отлетом птиц.
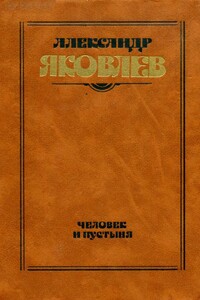
В книгу Александра Яковлева (1886—1953), одного из зачинателей советской литературы, вошли роман «Человек и пустыня», в котором прослеживается судьба трех поколений купцов Андроновых — вплоть до революционных событий 1917 года, и рассказы о Великой Октябрьской социалистической революции и первых годах Советской власти.
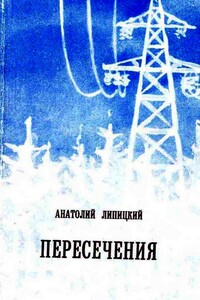
В своей второй книге автор, энергетик по профессии, много лет живущий на Севере, рассказывает о нелегких буднях электрической службы, о героическом труде северян.
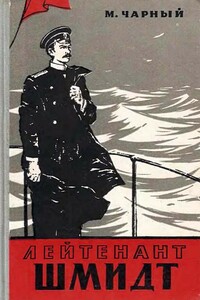
Историческая повесть М. Чарного о герое Севастопольского восстания лейтенанте Шмидте — одно из первых художественных произведений об этом замечательном человеке. Книга посвящена Севастопольскому восстанию в ноябре 1905 г. и судебной расправе со Шмидтом и очаковцами. В книге широко использован документальный материал исторических архивов, воспоминаний родственников и соратников Петра Петровича Шмидта.Автор создал образ глубоко преданного народу человека, который не только жизнью своей, но и смертью послужил великому делу революции.

Роман «Доктор Сергеев» рассказывает о молодом хирурге Константине Сергееве, и о нелегкой работе медиков в медсанбатах и госпиталях во время войны.
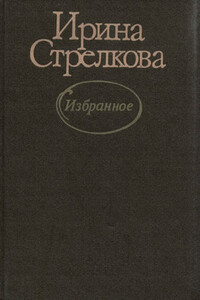
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Из предисловия:Владимир Тендряков — автор книг, широко известных советским читателям: «Падение Ивана Чупрова», «Среди лесов», «Ненастье», «Не ко двору», «Ухабы», «Тугой узел», «Чудотворная», «Тройка, семерка, туз», «Суд» и др.…Вошедшие в сборник рассказы Вл. Тендрякова «Костры на снегу» посвящены фронтовым будням.