Коричные лавки. Санатория под клепсидрой - [63]
Я приставил пистолет к виску и выстрелил, но мгновением прежде кто-то подтолкнул мою руку. Рядом со мной стоял офицер-фельдъегерь и, держа в руке бумаги, спрашивал: — Вы ли Иосиф N.?
— Да, — ответил я удивленно.
— Сновидели ли вы какое-то время назад, — сказал офицер, — общепринятый сон библейского Иосифа?
— Возможно...
— Так и есть, — сказал офицер, глядя в бумагу. — Известно ли вам, что сон ваш был замечен в высочайших инстанциях и сурово трактован?
— Я не отвечаю за свои сны, — сказал я.
— Нет же, отвечаете. Именем Его Императорского и Королевского Величества вы арестованы!
Я усмехнулся.
— Сколь медлительна машина правосудий. Бюрократия Его Императорского и Королевского Величества несколько неповоротлива. Я давно перечеркнул давнишний этот сон проступками куда более тяжкого калибра, за каковые сам хотел свершить над собой правосудие, но этот за давностью лет потерявший силу сон спас мне жизнь. Я к вашим услугам.
Я увидел приближающийся строй фельдъегерей. Сам протянул руки, чтобы на них наложили оковы. Еще раз оглянулся. В последний раз взглянул на Бианку. Она махала платочком, стоя на палубе. Гвардия инвалидов в молчании салютовала мне.
ИЮЛЬСКАЯ НОЧЬ
Летние ночи я впервые узнал в год окончания школы во время каникул. В нашем доме, всякий день проскваживаемом сквозь раскрытые окна дуновениями, шумами, сверканием летних дней, поселился новый жилец — маленькое, капризное, пищащее твореньице, сын моей сестры. Он навлек на обиталище наше как бы возврат к примитивным отношениям, отбросил социальное развитие к кочевым и гаремным порядкам матриархата с обозом постелей, пеленок, белья, непрерывно стираемого и сушимого, с небрежностями дамского туалета, склонного к чрезмерным обнажениям вегетативно-невинного характера, с кисловатым запахом младенчества и грудей, млеком набухших.
Сестра после тяжелых родов уехала на купания, муж ее появлялся только в пору приема пищи, родители пропадали допоздна в лавке. В доме установила господство мамка дитяти, отчего экспансивной женственности в ней многократно прибавилось, равно как и охоты прибегать к санкциям, свойственным роли матери-кормилицы. В величии сана своего мамка вездесущим и веским присутствием налагала на весь дом печать гинократии, проявлявшейся вдобавок сытой буйной плотскостью, в разумных пропорциях разделяемой между ею самой и двумя девушками-помощницами, которым любая деятельность давала повод распахнуть павлиний веер всего ассортимента самодостаточной женственности. На тихое цветение и созревание сада, полного шелеста листвы, серебряных отсветов и тенистых задумчивостей, дом наш откликался ароматом женского и материнского, разносившимся над белым бельем и цветущей плотью, и, когда в нестерпимо яркий полуденный час в ужасе взлетали все шторы на окнах, распахнутых настежь, а все пеленки на веревках вставали сияющей шпалерой, сквозь белый этот сигнал тревоги фуляра и полотна плыли оперенные семена, пыльца, облетевшие лепестки, и сад, в странствиях света и тени, в блуждании шумов и раздумий, неспешно шел сквозь комнату, как если бы в час тот Господень расторглись все преграды и стены, и мир целый, из которого отхлынули мысли и чувства, испытывал содрогание всеобъемлющего единства.
Вечера того лета я проводил в городском кинотеатре, который покидал по окончании последнего сеанса.
Из черноты кинозала, разодранной переполохом летающих светов и теней, выходили в тихий светлый вестибюль, как из пространств буревой ночи в укромный постоялый двор.
После фантастической гоньбы по бездорожьям фильма, после эксцессов экрана загнанное сердце успокаивалось в укрытой стенами от натиска высокой патетической ночи светлой этой ожидальне, в этой тихой пристани, где время давным-давно остановилось, а лампочки волна за волной тщетно испускали пустой свет в ритме, раз навсегда заданном глухим топтанием мотора, от которого слегка вздрагивала будка кассирши.
Вестибюль, погруженный в скуку поздних часов, словно вокзальные залы ожидания спустя время после отхода поезда, порой казался последним фоном бытия — тем, что останется, когда прейдут все события, когда исчерпается гомон веселья. На большой цветной афише Аста Нильсен пошатнулась с черным стигматом смерти на лбу, рот ее раз навсегда открылся в последнем крике, а глаза неправдоподобно распахнулись и были невозможно прекрасны.
Кассирша давно ушла домой и сейчас в своей комнатенке наверняка возилась возле расстеленной постели, как лодка, ожидавшей ее, чтобы унести в черные лагуны сна, в перипетии приснившихся похождений и приключений. Та, что сидела в будке, была всего лишь оболочкой, призрачным фантомом, взирающим усталыми ярко накрашенными глазами в пустоту света, бессмысленно трепещущим ресницами, чтобы стряхнуть обильно летящую с электрических ламп золотую пыль спячки. Порой она бледно усмехалась сержанту пожарной охраны, который, сам давно избытый собственной реальностью, стоял, прислонясь к стене, навеки замерший в сверкающей своей каске, в бессмысленной безупречности эполетов, серебряных шнуров и медалей. Поодаль, заодно с мотором, дребезжали стекла дверей, выходящих в позднюю июльскую ночь, но рефлекс электрической люстры стёкла слепил и ночь отрицал, сколько возможно латая иллюзию тихой пристани, упасшейся от громадной ночной стихии. Очарование ожидальни в конце концов обречено было исчезнуть — стеклянные двери отворялись, красная портьера воздымалась дыханием ночи, становившейся вдруг всем на свете.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
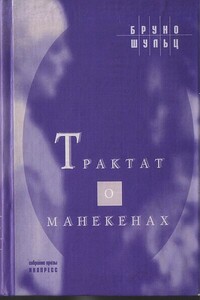
Бруно Шульц — выдающийся польский писатель, классик литературы XX века, погибший во время Второй мировой войны, предстает в «Трактате о манекенах» блистательным стилистом, новатором, тонким психологом, проникновенным созерцателем и глубоким философом.Интимный мир человека, увиденный писателем, насыщенный переживаниями прелести бытия и ревностью по уходящему времени, преображается Бруно Шульцем в чудесный космос, наделяется вневременными координатами и светозарной силой.Книга составлена и переведена Леонидом Цывьяном, известным переводчиком, награжденным орденом «За заслуги перед Польской культурой».В «Трактате о манекенах» впервые представлена вся художественная проза писателя.

Польская писательница. Дочь богатого помещика. Воспитывалась в Варшавском пансионе (1852–1857). Печаталась с 1866 г. Ранние романы и повести Ожешко («Пан Граба», 1869; «Марта», 1873, и др.) посвящены борьбе женщин за человеческое достоинство.В двухтомник вошли романы «Над Неманом», «Миер Эзофович» (первый том); повести «Ведьма», «Хам», «Bene nati», рассказы «В голодный год», «Четырнадцатая часть», «Дай цветочек!», «Эхо», «Прерванная идиллия» (второй том).

Книга представляет российскому читателю одного из крупнейших прозаиков современной Испании, писавшего на галисийском и испанском языках. В творчестве этого самобытного автора, предшественника «магического реализма», вымысел и фантазия, навеянные фольклором Галисии, сочетаются с интересом к современной действительности страны.Художник Е. Шешенин.

Автобиографический роман, который критики единодушно сравнивают с "Серебряным голубем" Андрея Белого. Роман-хроника? Роман-сказка? Роман — предвестие магического реализма? Все просто: растет мальчик, и вполне повседневные события жизни облекаются его богатым воображением в сказочную форму. Обычные истории становятся странными, детские приключения приобретают истинно легендарный размах — и вкус юмора снова и снова довлеет над сказочным антуражем увлекательного романа.
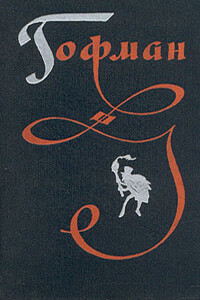
Крупнейший представитель немецкого романтизма XVIII - начала XIX века, Э.Т.А. Гофман внес значительный вклад в искусство. Композитор, дирижер, писатель, он прославился как автор произведений, в которых нашли яркое воплощение созданные им романтические образы, оказавшие влияние на творчество композиторов-романтиков, в частности Р. Шумана. Как известно, писатель страдал от тяжелого недуга, паралича обеих ног. Новелла "Угловое окно" глубоко автобиографична — в ней рассказывается о молодом человеке, также лишившемся возможности передвигаться и вынужденного наблюдать жизнь через это самое угловое окно...
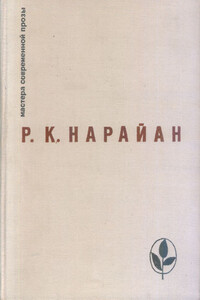
Рассказы Нарайана поражают широтой охвата, легкостью, с которой писатель переходит от одной интонации к другой. Самые различные чувства — смех и мягкая ирония, сдержанный гнев и грусть о незадавшихся судьбах своих героев — звучат в авторском голосе, придавая ему глубоко индивидуальный характер.

«Ботус Окцитанус, или восьмиглазый скорпион» [«Bothus Occitanus eller den otteǿjede skorpion» (1953)] — это остросатирический роман о социальной несправедливости, лицемерии общественной морали, бюрократизме и коррумпированности государственной машины. И о среднестатистическом гражданине, который не умеет и не желает ни замечать все эти противоречия, ни критически мыслить, ни протестовать — до тех самых пор, пока ему самому не придется непосредственно столкнуться с произволом властей.