Коричные лавки. Санатория под клепсидрой - [51]
Почему она держит голову склоненной? Во что внимательно и задумчиво вглядываются ее глаза? Так ли бездонно печально дно ее жребия? И однако, несмотря ни на что, разве не несет она кротость свою с достоинством, с гордостью, как будто так и должно, как будто знание это, лишая радости, наделяет некоей неприкосновенностью, некоей высшей свободой, обнаруженной на донышке добровольного послушания? Это придает ее уступчивости обаяние триумфа, уступчивость эту преодолевая.
Она сидит передо мной на скамейке возле гувернантки, обе читают. Ее белое платье — никогда не видел ее в другом цвете — расположилось на скамье, словно раскрытый цветок. Стройные смуглые ноги заложены одна на другую с невыразимым очарованием. Прикосновение к ее телу, вероятно, болезненно от сосредоточенной священности контакта.
Потом обе, закрыв книжки, встают. Одним быстрым взглядом Бианка принимает и возвращает мое пылкое приветствие и, словно бы необремененная им, уходит в меандрическом переплетанце ног, мелодически слаженном с ритмом больших эластичных шагов гувернантки.
Я разведал всю территорию вокруг майората. Несколько раз обошел обширное это место, обнесенное высоким забором. Белые стены виллы с ее террасами и просторными верандами являлись мне во все новых ракурсах. За виллой тянется парк, переходящий затем в бездеревную равнину. Там стоят странные постройки: полуфабрики, полуфольварки. Я заглянул в щель забора и то, что увидел, было, надо полагать, обманом зрения. В разреженной зноем весенней погоде видятся порой объекты далекие, отраженные милями дрожащего воздуха. И, однако, голова моя идет кругом от противоречивейших мыслей. Надо посоветоваться с альбомом.
Возможно ли такое? Вилла Бианки экстерриториальна? Ее дом под охраной международных соглашений? К каким поразительным открытиям приводит меня изучение альбома! Неужели только мне известно удивительное это обстоятельство? И все же не следует недооценивать все факты и аргументы, наличествующие в альбоме насчет сего пункта.
Я изучил сегодня виллу вблизи. Несколько недель ходил я мимо искусно кованных монументальных ворот с гербом. Я воспользовался моментом, когда два больших пустых экипажа выехали из сада. Створки ворот остались широко распахнуты. Никто их не затворил. Я вошел небрежной походкой, достал из кармана блокнот для эскизов и, опершись о воротный столб, сделал вид, что рисую какую-то архитектурную деталь. Я стоял на посыпанной гравием дорожке, по которой столько раз ступала легкая ножка Бианки. Сердце безмолвно замирало от счастливого страха при мысли, что в каких-нибудь балконных дверях появится ее стройная фигура в легком белом платьице. Однако окна и двери были затянуты зелеными шторами. Малейший шорох не обнаруживал жизни, затаившейся в доме. Небо темнело на горизонте, в отдалении сверкали молнии. В теплом разреженном воздухе не было и легчайшего дуновения. В тишине серого этого дня только мелово-белые стены виллы изъяснялись беззвучной, но выразительной элоквенцией богато члененной архитектуры. Ее легкое красноречие осуществлялось в плеоназмах, в тысячных вариантах одного и того же мотива. По нестерпимо белому фризу влево и вправо, нерешительно замирая по углам, шли в ритмических каденциях барельефные гирлянды. С высоты средней террасы, меж поспешно расступившихся балюстрад и архитектурных ваз, патетически и церемониально сбегала мраморная лестница и, широко перетекши к земле, казалось, присобирала и отводила за спину свои взвихренные одежды для глубокого реверанса.
У меня поразительно острое чувство стиля. Здешний стиль дразнил меня и беспокоил чем-то необъяснимым. За его с трудом выдержанным чистым классицизмом, за его с виду холодной элегантностью крылась непонятная жутковатость. Стиль этот был слишком горяч, слишком резко акцентирован, полон неожиданных метин. Некая капля неведомого яда, впущенная в его жилы, делала кровь его темной, взрывчатой и опасной.
Внутренне сбитый с толку, вздрагивая от противоречивых намерений, я обходил на цыпочках фасад виллы, вспугивая дремавших на ступеньках ящериц.
Возле высохшего круглого бассейна земля потрескалась от солнца и была еще голая. Тут и там из трещин в грунте выбилась пылкая, фанатичная зелень. Я сорвал пучок этих травинок и положил меж листов блокнота. Я весь дрожал внутренним возбуждением. Над бассейном, зыблясь от зноя, стоял серый воздух, чересчур прозрачный и блестящий. Барометр на ближайшем столбике показывал катастрофическую сушь. Тишина стояла вокруг. Ни одну веточку не шевелил ветерок. Вилла спала с опущенными жалюзи, светясь меловой белизной в безбрежной мертвенности серого воздуха. Внезапно застой этот как бы достиг критической точки, из воздуха возник цветной фрагмент и распался на цветные же лепестки, на мелькающие плески.
Это были огромные тяжелые бабочки, попарно занятые любовными играми. Неуклюжее, дергающееся трепетанье некоторое время удерживалось в мертвой погоде. Они то опережали друг дружку, то снова соединялись на лету, тасуя в стемневшем воздухе целую талию цветных проблесков. Был ли это всего лишь быстрый распад буйной погоды, фата-моргана воздуха, перенасыщенного гашишем и фанаберией? Я ударил шапкой, и тяжелая плюшевая бабочка упала наземь, трепеща крылышками. Я поднял ее и спрятал. Одним доводом больше.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
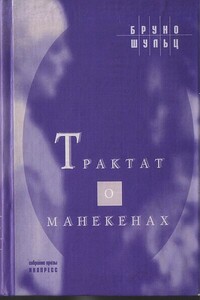
Бруно Шульц — выдающийся польский писатель, классик литературы XX века, погибший во время Второй мировой войны, предстает в «Трактате о манекенах» блистательным стилистом, новатором, тонким психологом, проникновенным созерцателем и глубоким философом.Интимный мир человека, увиденный писателем, насыщенный переживаниями прелести бытия и ревностью по уходящему времени, преображается Бруно Шульцем в чудесный космос, наделяется вневременными координатами и светозарной силой.Книга составлена и переведена Леонидом Цывьяном, известным переводчиком, награжденным орденом «За заслуги перед Польской культурой».В «Трактате о манекенах» впервые представлена вся художественная проза писателя.

Польская писательница. Дочь богатого помещика. Воспитывалась в Варшавском пансионе (1852–1857). Печаталась с 1866 г. Ранние романы и повести Ожешко («Пан Граба», 1869; «Марта», 1873, и др.) посвящены борьбе женщин за человеческое достоинство.В двухтомник вошли романы «Над Неманом», «Миер Эзофович» (первый том); повести «Ведьма», «Хам», «Bene nati», рассказы «В голодный год», «Четырнадцатая часть», «Дай цветочек!», «Эхо», «Прерванная идиллия» (второй том).

Книга представляет российскому читателю одного из крупнейших прозаиков современной Испании, писавшего на галисийском и испанском языках. В творчестве этого самобытного автора, предшественника «магического реализма», вымысел и фантазия, навеянные фольклором Галисии, сочетаются с интересом к современной действительности страны.Художник Е. Шешенин.

Автобиографический роман, который критики единодушно сравнивают с "Серебряным голубем" Андрея Белого. Роман-хроника? Роман-сказка? Роман — предвестие магического реализма? Все просто: растет мальчик, и вполне повседневные события жизни облекаются его богатым воображением в сказочную форму. Обычные истории становятся странными, детские приключения приобретают истинно легендарный размах — и вкус юмора снова и снова довлеет над сказочным антуражем увлекательного романа.
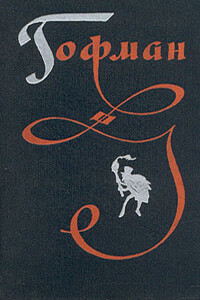
Крупнейший представитель немецкого романтизма XVIII - начала XIX века, Э.Т.А. Гофман внес значительный вклад в искусство. Композитор, дирижер, писатель, он прославился как автор произведений, в которых нашли яркое воплощение созданные им романтические образы, оказавшие влияние на творчество композиторов-романтиков, в частности Р. Шумана. Как известно, писатель страдал от тяжелого недуга, паралича обеих ног. Новелла "Угловое окно" глубоко автобиографична — в ней рассказывается о молодом человеке, также лишившемся возможности передвигаться и вынужденного наблюдать жизнь через это самое угловое окно...
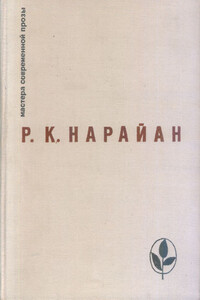
Рассказы Нарайана поражают широтой охвата, легкостью, с которой писатель переходит от одной интонации к другой. Самые различные чувства — смех и мягкая ирония, сдержанный гнев и грусть о незадавшихся судьбах своих героев — звучат в авторском голосе, придавая ему глубоко индивидуальный характер.

«Ботус Окцитанус, или восьмиглазый скорпион» [«Bothus Occitanus eller den otteǿjede skorpion» (1953)] — это остросатирический роман о социальной несправедливости, лицемерии общественной морали, бюрократизме и коррумпированности государственной машины. И о среднестатистическом гражданине, который не умеет и не желает ни замечать все эти противоречия, ни критически мыслить, ни протестовать — до тех самых пор, пока ему самому не придется непосредственно столкнуться с произволом властей.