Коричные лавки. Санатория под клепсидрой - [39]
В их жизни, исполненной самодостаточной грации, не оставалось места альтернативе. Наскучив тюрьмой безвыходного совершенства, обуреваемые сплином — они брюзжали, морща губу, полные безосновательной жестокости в короткой, расширенной полосатостью морде. Пониже украдкой проскальзывали куницы, хорьки и лисы — ворье меж зверей, животные с нечистой совестью. Коварством, интригою, трюком они вопреки плану творения добились позиции в жизни и, преследуемые ненавистью, всегда в опасности, всегда начеку, в вечном страхе за эту самую позицию, отчаянно любили краденую свою, по норам хоронящуюся жизнь, готовые дать себя растерзать, отстаивая ее.
Наконец миновали они все, и в комнату вошла тишина. Я снова принялся рисовать, уйдя в свою бумагу, дышавшую светом. Окно было отворено, и на оконном карнизе дрожали на весеннем ветру горлицы и голу́бки. Склонив головки, они показывали в профиле круглый и стеклянный глаз, словно бы устрашенные и исполненные полета. Дни в последнее время сделались мягкие, опаловые и светоносные, а иногда — жемчужные, полные мглистой сладости.
Настала Пасха, и родители уехали на неделю к моей замужней сестре. Меня оставили одного на милость вдохновения. Аделя каждодневно приносила обеды и завтраки. Я и не замечал, когда она появлялась на пороге, празднично одетая, благоухающая весной из своих тюлей и фуляров.
Сквозь открытое окно вплывали мягкие дуновения, наполняя комнату отсветами далеких пейзажей. Какое-то время они жили в воздухе, навеянные эти краски ясных далей, чтобы вдруг растаять, расточиться в тень голубеющую, в нежность и трогательность. Прилив образов несколько поумерился, половодье визий утихло и успокоилось.
Я сидел на полу. Возле меня, лежали мелки и пуговки красок — Божьи колера, лазури, дышавшие свежестью, зелени, вовсе достигшие границ изумления. И когда я брался за красный мелок, в ясный мир летели фанфары счастливой красности, все балконы струились волнами красных флагов, и дома выстраивались вдоль улицы триумфальной шпалерой. Парады городских пожарных в малиновых мундирах печатали шаг на светлых радостных дорогах, а мужчины приподнимали котелки цвета черешни. Черешневая сладость, черешневый щебет щеглов полнили воздух, сплошь лавандовый и в мягких отсветах.
А когда брал я голубую краску — по всем окошкам улиц проходил отблеск кобальтовой весны; звеня, отворялись одна за другой створки, полные голубизны и голубого огня; занавески вставали, как по тревоге, и легкий, радостный сквозняк шел всей шпалерою среди взволнованных муслинов и олеандров на пустых балконах, как если бы на другом конце длинной этой и светлой аллеи явился кто-то очень далекий и близился — лучезарный, предваряемый вестью, предчувствием, благовествованный полетом ласточек, универсалами светоносными, разбросанными от версты до версты.
Именно в пасхальные праздники, в конце марта или в начале апреля, из тюрьмы, в которую сажали его на зиму после летне-осенних скандалов и безумств, выходил Шлёма, сын Товита. В какой-то из тех весенних заполдней я наблюдал в окошко, как он вышел от парикмахера, бывшего в одном лице также цирюльником, брадобреем и хирургом города; как с элегантностью, приобретенной благодаря тюремным строгостям, отворил стеклянные сверкающие двери цирюльни и сошел по трем деревянным ступенькам, надушенный и помолодевший, аккуратно постриженный, в коротковатом сюртучке и высоко подтянутых клетчатых штанах, тонкий и моложавый для своих сорока лет.
Площадь Святой Троицы была об эту пору пуста и чиста. После весеннего таянья и грязи, смытой затем проливными дождями, теперь оставалась умытая мостовая, просушенная тихой, мягкой погодой за многие дни, долгие уже и, может быть, слишком просторные для ранней той поры, продолжающиеся несколько сверх меры, особенно вечерами, когда сумерки длились без конца, пустые еще в глубине, напрасные и выхолощенные в огромном своем ожидании.
Когда Шлёма затворил за собой стеклянные двери парикмахерской, в них тотчас вошло небо, как и во все маленькие окна этого двухэтажного дома, открытого чистым глубинам тенистого небосклона.
Сойдя по ступенькам, он оказался вполне одиноким на кромке площади — большой и пустой раковины, сквозь которую текла голубизна бессолнечного неба.
Обширная чистая площадь в послеполуденное это время выглядела, словно стеклянный шар, словно новый непочатый год. Шлёма стоял на его берегу вполне серый и погасший, заваленный лазурями, и не смел нарушить решением безупречный этот шар дня непользованного.
Только раз в год, в день выхода из тюрьмы, Шлёма чувствовал себя таким чистым, необремененным и новым. День принимал его в себя отмытым наконец от грехов, обновленным, поладившим с миром; отворял перед ним со вздохом чистые круги горизонтов, венчанные тихой красою. А он не спешил. Он стоял на кромке дня и не решался перешагнуть, пересечь своей мелкой, молодой, несколько прихрамывающей поступью слегка выпуклую раковину заполдня.
Прозрачная тень лежала над городом. Безмолвие третьего послеполуденного часа извлекало из домов чистую белизну мела и беззвучно раскладывало ее вокруг площади, как талию карт. Раздав один расклад, оно начинало новый, черпая запасы белизны с большого барочного фасада Святой Троицы, который, словно слетевшая с небес огромная рубаха Бога, драпированная пилястрами, ризалитами и оконными проемами, распяленный пафосом волют и архивольтов, торопливо приводил на себе в порядок огромное это взбудораженное одеяние.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
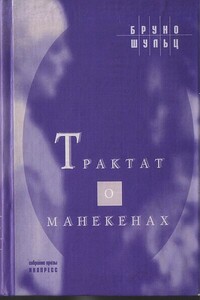
Бруно Шульц — выдающийся польский писатель, классик литературы XX века, погибший во время Второй мировой войны, предстает в «Трактате о манекенах» блистательным стилистом, новатором, тонким психологом, проникновенным созерцателем и глубоким философом.Интимный мир человека, увиденный писателем, насыщенный переживаниями прелести бытия и ревностью по уходящему времени, преображается Бруно Шульцем в чудесный космос, наделяется вневременными координатами и светозарной силой.Книга составлена и переведена Леонидом Цывьяном, известным переводчиком, награжденным орденом «За заслуги перед Польской культурой».В «Трактате о манекенах» впервые представлена вся художественная проза писателя.

Книга представляет российскому читателю одного из крупнейших прозаиков современной Испании, писавшего на галисийском и испанском языках. В творчестве этого самобытного автора, предшественника «магического реализма», вымысел и фантазия, навеянные фольклором Галисии, сочетаются с интересом к современной действительности страны.Художник Е. Шешенин.

Автобиографический роман, который критики единодушно сравнивают с "Серебряным голубем" Андрея Белого. Роман-хроника? Роман-сказка? Роман — предвестие магического реализма? Все просто: растет мальчик, и вполне повседневные события жизни облекаются его богатым воображением в сказочную форму. Обычные истории становятся странными, детские приключения приобретают истинно легендарный размах — и вкус юмора снова и снова довлеет над сказочным антуражем увлекательного романа.
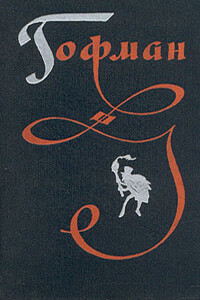
Крупнейший представитель немецкого романтизма XVIII - начала XIX века, Э.Т.А. Гофман внес значительный вклад в искусство. Композитор, дирижер, писатель, он прославился как автор произведений, в которых нашли яркое воплощение созданные им романтические образы, оказавшие влияние на творчество композиторов-романтиков, в частности Р. Шумана. Как известно, писатель страдал от тяжелого недуга, паралича обеих ног. Новелла "Угловое окно" глубоко автобиографична — в ней рассказывается о молодом человеке, также лишившемся возможности передвигаться и вынужденного наблюдать жизнь через это самое угловое окно...
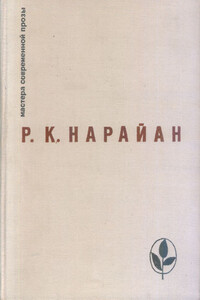
Рассказы Нарайана поражают широтой охвата, легкостью, с которой писатель переходит от одной интонации к другой. Самые различные чувства — смех и мягкая ирония, сдержанный гнев и грусть о незадавшихся судьбах своих героев — звучат в авторском голосе, придавая ему глубоко индивидуальный характер.

«Ботус Окцитанус, или восьмиглазый скорпион» [«Bothus Occitanus eller den otteǿjede skorpion» (1953)] — это остросатирический роман о социальной несправедливости, лицемерии общественной морали, бюрократизме и коррумпированности государственной машины. И о среднестатистическом гражданине, который не умеет и не желает ни замечать все эти противоречия, ни критически мыслить, ни протестовать — до тех самых пор, пока ему самому не придется непосредственно столкнуться с произволом властей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.