Коричные лавки. Санатория под клепсидрой - [35]
И когда через какое-то время она кончалась долгим, протяжным взвизгом, выпотрошенным из шарманки, которая заводила совсем про другое, мысли и заботы замирали на миг, словно бы в танце, чтобы сменить шаг, а потом, не раздумывая, начинали вертеться в обратную сторону, в такт новой мелодии, издаваемой шарманочными дудками: «Маргаритка, дар ты мой бесценный...»
И в тупом индифферентизме того утра никто не заметил даже, что суть мира радикально переиначилась, что существовал он уже не в такт «Дэйзи, Дэйзи...», но совсем наоборот — «Мар-га-ри-тка...»
Переворачиваем еще страницу... Что это? Дождь ли сеется весенний? Нет, это чиликанье птичек сыплется серой дробью на зонтики, ибо тут предлагают нам настоящих гарцских канареек, клетки, полные щеглов и скворцов, корзинки с крылатыми певцами и говорунами. Веретеноподобные и легкие, словно набитые ватой, конвульсивно подпрыгивающие, верткие, будто они на гладких писклявых штырьках, голосистые, точно кукушки ходиков, скрашивали они одиночество, заменяли холостякам тепло домашнего очага, вызывали в суровейших сердцах сладость материнского чувства — столь много было в них птенцового и трогательного, и ко всему еще, если перевернуть над ними страницу, слали вдогонку дружное свое призывное чириканье.
А дальше сей документ прискорбный приходил во все больший упадок. Он как бы сбивался на этакую сомнительную шарлатанскую ворожбу. В долгополом пальто, с усмешкой, наполовину скрытой в черной бороде, кто же это предлагал себя к услугам публики? Господин Боско из Милана, своего рода мастер черной магии, и говорил длинно и неопределенно, показывая что-то на кончиках пальцев, что не делает предмета понятнее. И хотя, по собственному убеждению, приходил он к поразительным выводам, которые, казалось, какое-то мгновение взвешивал в чувствительных фалангах, прежде чем их летучий смысл не ускользнет из пальцев в воздух, и хотя отмечал он тонкие повороты диалектики остерегающим поднятием бровей, приуготовлявшим к чему-то необыкновенному, его не понимали и что хуже — не желали понимать, оставляя со всей жестикуляцией, с тихой манерой говорить и обширной шкалой темных улыбок, дабы торопливо долистать последние, разваливающиеся на обрывки, страницы.
На этих последних листочках, которые явно погружались в изощренный бред и откровенную бессмыслицу, некий джентльмен предлагал безотказный метод стать энергичным и твердым в решениях и много говорил о принципах и характере. Но стоило перевернуть страницу, чтобы оказаться совершенно сбитым с толку касательно решительности и принципов.
А это мелкими шажками выходила спутанная шлейфом платья некая госпожа Магда Ванг и заявляла с высоты стянутого декольте, что смеется над мужской решительностью и принципами и что ее специальность ломать самые железные характеры. (Тут она движением ножки устраивала шлейф на полу.) Для этого существуют методы, цедила она сквозь стиснутые зубы, безотказные приемы, касательно которых она не желает распространяться, отсылая интересующихся к своим мемуарам под названием «Из пурпурных дней» (Издательство Института антропософии в Будапеште), где приводит результаты своего колониального опыта в области дрессировки людей (на выражение это сделан упор при ироническом блеске в глазах). И странное дело — лениво и бесцеремонно изъясняющаяся дама эта, похоже, не сомневалась в одобрении тех, о ком с таким цинизмом говорила, и в атмосфере своеобразной замороченности и тумана казалось, что цели моральных установок удивительным образом переместились и что мы находимся в ситуации, когда компас показывает наоборот.
Это было последнее слово Книги, оставлявшее привкус странного ошеломления, смесь голода и душевного подъема.
Склоненный над Книгой, с лицом, пылающим, как радуга, я тихо сгорал от экстаза к экстазу. Поглощенный чтением, я забыл про обед. Предчувствие не обмануло меня. Это был Подлинник, священный оригинал, хоть и в столь глубоком упадке и деградации. И когда поздними сумерками, блаженно улыбаясь, я прятал эти обрывки в укромнейший ящик, заложив их для отвода глаз другими книгами, — казалось мне, что зарю я укладываю спать в комоде, зарю, которая вновь и вновь загоралась от самой себя и проходила через все пламена и пурпурности, и начинала сызнова, и не желала кончаться.
Как безразличны стали мне все книги!
Ведь обыкновенные книги, они же, как метеоры. Каждая из них знает одно мгновение, некий момент, когда с кликом воспаряет, как феникс, пылая всеми страницами. Ради одного этого мгновения, одного этого момента мы потом и любим ее, хотя она уже теперь только пепел, И с горьким смирением порой влачимся мы слишком запоздало через все эти простывшие страницы, передвигая с деревянным щелканьем четок мертвые их премудрости.
Экзегеты Книги полагают, что всякая книга устремлена к Подлиннику, то есть живет заемной жизнью, которая в момент взлета возвращается к своему первоисточнику. Это означает, что книг убывает, меж тем как Подлинник растет. Однако мы не станем утомлять читателя изложением Доктрины. Нам бы хотелось обратить внимание вот на что: Подлинник живет и растет. Что из этого следует? А то, что, когда мы снова перелистаем обрывки наши, кто знает, где окажутся к тому времени Анна Чилляг и ее последователи. Может, узрим мы ее, долговолосую путницу, заметающую своим покровом дороги Моравии, странствующую в далекой крайне, по белым городишкам, погруженным в будни и прозу, и раздающую образчики бальзама «Эльза-флюид» простецам Божьим, мучимым истечениями и чесоткой. Ах, что предпримут тогда почтенные бородачи городка, обездвиженные неимоверной волосистостью, как поступит эта преданная ей община, обреченная на обихаживание и учет изобильной своей урожайности? Кто знает, не накупят ли все подлинных шарманок из Шварцвальда и не последуют ли в мир за своею апостольшей искать ее по стране, наигрывая всюду «Дэйзи, Дэйзи»?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
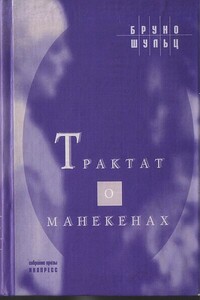
Бруно Шульц — выдающийся польский писатель, классик литературы XX века, погибший во время Второй мировой войны, предстает в «Трактате о манекенах» блистательным стилистом, новатором, тонким психологом, проникновенным созерцателем и глубоким философом.Интимный мир человека, увиденный писателем, насыщенный переживаниями прелести бытия и ревностью по уходящему времени, преображается Бруно Шульцем в чудесный космос, наделяется вневременными координатами и светозарной силой.Книга составлена и переведена Леонидом Цывьяном, известным переводчиком, награжденным орденом «За заслуги перед Польской культурой».В «Трактате о манекенах» впервые представлена вся художественная проза писателя.
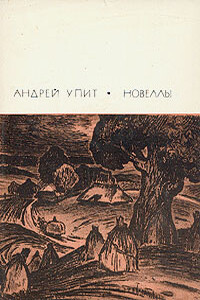
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автобиографический роман, который критики единодушно сравнивают с "Серебряным голубем" Андрея Белого. Роман-хроника? Роман-сказка? Роман — предвестие магического реализма? Все просто: растет мальчик, и вполне повседневные события жизни облекаются его богатым воображением в сказочную форму. Обычные истории становятся странными, детские приключения приобретают истинно легендарный размах — и вкус юмора снова и снова довлеет над сказочным антуражем увлекательного романа.
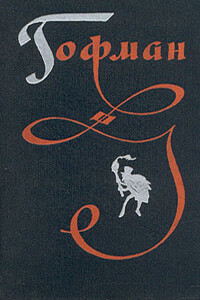
Крупнейший представитель немецкого романтизма XVIII - начала XIX века, Э.Т.А. Гофман внес значительный вклад в искусство. Композитор, дирижер, писатель, он прославился как автор произведений, в которых нашли яркое воплощение созданные им романтические образы, оказавшие влияние на творчество композиторов-романтиков, в частности Р. Шумана. Как известно, писатель страдал от тяжелого недуга, паралича обеих ног. Новелла "Угловое окно" глубоко автобиографична — в ней рассказывается о молодом человеке, также лишившемся возможности передвигаться и вынужденного наблюдать жизнь через это самое угловое окно...
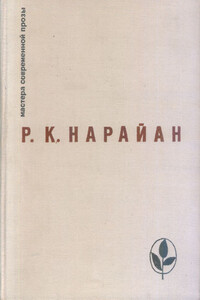
Рассказы Нарайана поражают широтой охвата, легкостью, с которой писатель переходит от одной интонации к другой. Самые различные чувства — смех и мягкая ирония, сдержанный гнев и грусть о незадавшихся судьбах своих героев — звучат в авторском голосе, придавая ему глубоко индивидуальный характер.

«Ботус Окцитанус, или восьмиглазый скорпион» [«Bothus Occitanus eller den otteǿjede skorpion» (1953)] — это остросатирический роман о социальной несправедливости, лицемерии общественной морали, бюрократизме и коррумпированности государственной машины. И о среднестатистическом гражданине, который не умеет и не желает ни замечать все эти противоречия, ни критически мыслить, ни протестовать — до тех самых пор, пока ему самому не придется непосредственно столкнуться с произволом властей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.