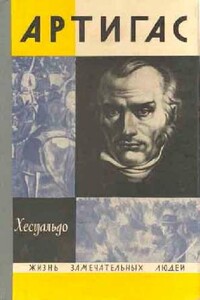Конь рыжий - [4]
Комната внезапно осветилась никогда ранее незамечаемым светом. Все предметы в ней – умывальник, стулья, стакан, зеркало – стали вдруг не вещами, а словно странными, впервые увиденными существами. Ими наполнялся весь дом; в столовой на накрытом скатертью столе – томпаковый самовар, серебряная сухарница, золочёная сахарница на шариках-ножках, какие-то вазы, всё стало безобразно и уродливо.
Из спальни послышался испуганно-сдержанный шепот матери, уговаривающей отца не двигаться. Неся в тазу мокрые белые компрессы, оттуда вышла горничная Саша и вдруг, увидев меня, заплакала, заспешила, побежала по коридору.
Сердце леденело и падало, когда я и брат входили к отцу. В бурдовом халате, с распахнутым воротом рубахи отец полулежал в большом кресле, крупный, лысоватый; правильное лицо было подернуто мертвенной желтизной, лишившей его уже жизни; светлосерые глаза, словно расколотые, отсутствовали из мира; когда-то в детстве, играя на коленях отца, в этих глазах я «смотрел мальчиков».
Прощаясь, он с придыханьем произнес: «благословляю… берегите мать… будьте честны…». Мать умоляюще зашептала, чтоб он не напрягался; отец слабо улыбнулся, сказав: «ничего, Ольгунюшка…». Я не знал, что мне делать? Мне хотелось уйти из спальни и было стыдно этого чувства, потому что я отца любил.
В дверь, торопясь, вошли врачи, потирающий с холода руки, насупленный, седой и другой, быстрый, маленький, рыжий. В столовой суетились горничная и няня, Анна Григорьевна: варили кофе, откупоривали шампанское; на столе валялись какие-то лекарства, разбитые ампулы. Но в этой общей торопливости я ощущал, что спасенья нет, что отец умирает, что рушится всё, и завтрашнего дня уже не будет.
Я встал у окна глядя на двор. На дворе в овчинном полушубке и серых валеных с узорной каймой, кучер Никанор прометал дорожки от навалившего за ночь снега; мордва-дроворубы в зипунах и заячьих шапках беззвучно пилили длинной пилой; из кухни вышел повар и по его жестам я понял, что он кричит кучеру что-то смешное, вот он нагнулся, захватил снегу и припрыгивая, кидается снежками в Никанора. Я гляжу на двор, но – кучер, повар, мордва, двор, снег, – кажутся мне необычайно несуществующими.
Отцу хуже. Красивые и сейчас какие-то разверстые глаза матери напряжены отчаяньем, она посылает меня в аптеку за кислородными подушками. Я тороплюсь, я рад, что сейчас уеду из дома, где умирает отец, поеду по морозу, буду дышать ветреным воздухом. Но и на улице всё – люди, извозчики, лошади, дома – также сдвинуты с мест и также куда-то отошли. Вот мимо нашего дома идут пешеходы, а мне кажется, что они передвигаются в такой удаленности, что если я им сейчас закричу, то они меня не услышат; пешеходы куда-то идут и уходят от меня…
По усиливающейся тревоге в доме я понимаю, что страшная минута, о которой все боятся говорить, приходит. Вошли старые знакомые с совершенно новыми лицами, кто-то неловко взял из сухарницы печенье. По слезам вышедших друзей-докторов, по тому, как на кухне навзрыд плачет Анна Григорьевна, я чувствую, что приближение этой минуты ускоряется. И вдруг из спальни – полукрик матери и в доме всё страшно остановилось. И тут же всё как бы обрушилось, завертелось; внезапно все заходили, зашумели, заплакали. Во мне, – камень тяжелиной в семнадцать лет моей жизни оторвался и стал куда-то бездонно падать.
Торжественную предсмертную тишину, в которой будто жило чье-то присутствие, запрещавшее и громко говорить и шумно двигаться, сменила теперь всеоскорбляющая суета. Только остававшаяся в спальной мать не видала изменившегося дома; лицо ее было и незнакомо и странно непримиримым отчаяньем, а у лежащего отца лицо было, будто он спал.
В доме же теперь все говорили и ходили шумно. Я не понимал, по чьему распоряжению всё происходит? Но начавшаяся суета разросталась всё страшнее и кто-то, казалось, ею управляет. Уложив трубки, шприцы, лекарства, уехали доктора. Прислуга понесла на почту телеграммы. Парадные двери раскрылись и, стелясь по ковру, поднимаясь в комнаты, в кабинет отца, к креслам, с мороза повалил круглый холод. В натоптанную снегом переднюю стали вносить живые, дышащие морозом цветы. Пришли знакомые отца по судебному ведомству, незнакомые, в шубах; мелькнули быстрые черные монашки Троицкого монастыря, зашептавшиеся с Анной Григорьевной о священнике, диаконе, хоре, и наконец; шлёпая и скрипя калошами, появились здоровенные, запорошенные снегом человеки из бюро похоронных процессий; это: гроб и катафалк.
А назавтра среди нежно зеленых пальм и зеленой мебели, там, где всегда блистал лаковым крылом черный рояль, теперь стоял обитый глазетом гроб. Рваными космами по дому плавал ладан, мешаясь с запахом цветов и морозом. На панихиду с улицы входили любопытные, какие-то мещаночки в косынках, крестясь, перешептывались: «Где жена-то?» – «Да, вон, у гроба». – «Молодая, поди-убивается». И толкаясь, лезли посмотреть на покойника, на гроб, на цветы, на картины, на мебель, на пальмы, на лицо матери. Но вдруг всех раздавил громоподобный бас диакона; сморкаясь, откашливаясь и находу пуская октаву погуще, он шел служить, возглашать. Суета становилась нестерпима. И только когда в запах морозных цветов и в дым ладана влилось откуда-то слетевшее пенье, показалось, что в дом возвращается та прежняя тишина с страдальческим прислушиваньем к чему-то пролетевшему и задевшему наш дом темно-большим крылом.
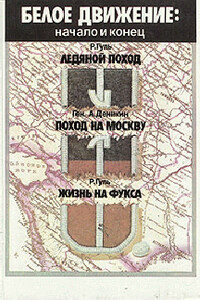
Эмиграция «первой волны» показана в третьем. Все это и составляет содержание книги, восстанавливает трагические страницы нашей истории, к которой в последнее время в нашем обществе наблюдается повышенный интерес.

Автор этой книги — видный деятель русского зарубежья, писатель и публицист Роман Борисович Гуль (1896–1986 гг.), чье творчество рассматривалось в советской печати исключительно как «чуждая идеология». Название мемуарной трилогии Р. Б. Гуля «Я унёс Россию», написанной им в последние годы жизни, говорит само за себя. «…я унес Россию. Так же, как и многие мои соотечественники, у кого Россия жила в памяти души и сердца. Отсюда и название этих моих предсмертных воспоминаний… Под занавес я хочу рассказать о моей более чем шестидесятилетней жизни за рубежом.».

Роман "Азеф" ценен потому, что эта книга пророческая: русский терроризм 1900-х годов – это начало пути к тем "Десяти дням, которые потрясли мир", и после которых мир никогда уже не пришел в себя. Это – романсированный документ с историческими персонажами, некоторые из которых были еще живы, когда книга вышла в свет. Могут сказать, что книги такого рода слишком еще близки к изображаемым событиям, чтобы не стать эфемерными, что последняя война породила такие же книги, как "Сталинград" Пливье, "Капут" Малапартэ, которые едва ли будут перечитываться, и что именно этим может быть объяснено и оправдано и забвение романа "Азеф".

Гуль - Роман Борисович (1896-1986) - русский писатель. С 1919 за границей (Германия, Франция, США). В автобиографической книге ""Ледяной поход""(1921) описаны трагические события Гражданской войны- легендарный Ледяной поход генерала Корнилова , положивший начало Вооруженным Силам Юга России .
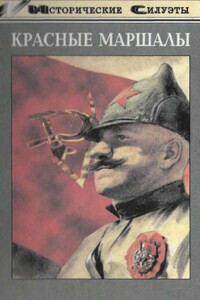
«Красные маршалы» Романа Гуля — произведение во многом уникальное. Сам автор — ветеран белого движения, участник I-го Кубанского («Ледового») похода Добровольческой армии — сражался с этими «маршалами» на полях гражданской войны, видел в них прежде всего врагов, но врагов сильных, победоносных, выигравших ту страшную братоубийственную войну.Любопытство, болезненный интерес побежденного к победителям? Что двигало Гулем, когда в эмиграции он взялся писать о вождях Красной Армии?Материала было мало, и сам Гуль не всегда считал его достоверным.

Во втором томе Собрания сочинений Игоря Чиннова в разделе "Стихи 1985-1995" собраны стихотворения, написанные уже после выхода его последней книги "Автограф" и напечатанные в журналах и газетах Европы и США. Огромный интерес для российского читателя представляют письма Игоря Чиннова, завещанные им Институту мировой литературы РАН, - он состоял в переписке больше чем с сотней человек. Среди адресатов Чиннова - известные люди первой и второй эмиграции, интеллектуальная элита русского зарубежья: В.Вейдле, Ю.Иваск, архиепископ Иоанн (Шаховской), Ирина Одоевцева, Александр Бахрах, Роман Гуль, Андрей Седых и многие другие.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих В предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.
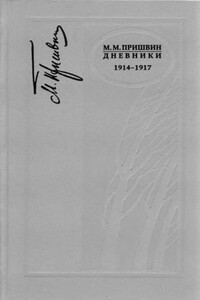
Дневники М.М.Пришвина (1918–1919) зеркало его собственной жизни и народной судьбы в тягчайшие для России годы: тюрьма, голод, попытка жить крестьянским трудом, быт двух столиц, гражданская война, массовые расстрелы, уничтожение культуры — и в то же время метания духа, любовь, творчество, постижение вечного.В ходе подготовки «Дневников» М.М.Пришвина ко второму изданию были сверены и частично прочитаны места текста, не разобранные или пропущенные в первом издании.