Коммунисты - [593]
И вдруг, как будто вылилась вода, налившаяся в уши, — он услышал все, что говорили вокруг: голоса отдавались очень гулко, как под сводами собора. Что это? Звонят в соборные колокола? Когда же начнется служба? Кто будет играть на органе? Послушники уже собрались, переговариваются… О чем это они говорят?
— Будь у меня сила, право слово, выкинул бы за окно этого вонючего попа… До того смердит от него, сил нет терпеть!..
— Да разве он виноват? У него гангрена… Страшное дело, эта гангрена…
— Вот и боязно подцепить гангрену, от него зараза-то на всех идет. Хоть бы сдох поскорее, а то и мы все подохнем…
— Ну, гангрена не то, что, скажем, оспа — это не заразительно.
О чем же они говорят? О каком священнике? Обо мне? За что они меня ненавидят, боже всемогущий? Они говорят, что я скоро умру. Может быть, мне и лучше умереть. С тех пор как я стал слышать, очень уж мучительна боль. Ай! Ай!
— Опять орет, окаянный! Мало того, что приходится нос зажимать, теперь еще и уши затыкай.
Господи, господи, пошли мне смерть. Сделай так, чтоб я больше не слышал этой ненависти разбойников вокруг моего креста! Ох, Бернар, в смертный час все еще владеет тобой гордыня… Как же ты смеешь сравнивать себя с господом, распятым на кресте? Прости, Иисусе, прости меня… Дай мне предстать перед тобою в одеянии смирения, как подобает твоему слуге… Ай! Ай! Прости мне, боже, мои вопли! Ай!
— Если его не удушат, я с ума сойду, — очень громко сказал раненый, лежавший в другом углу комнаты. — Так бы и швырнул в него башмаком!
Бернар Бломе больше не различает ни угроз, ни ругани, ни богохульства. Он кричит от боли, раздирающей его тело… Ай! И вдруг он снова глохнет — снова как будто вода налилась ему в уши; ночная тьма затянула погребальным покровом невидимый собор… И тогда он вспомнил, что умирает без покаяния, без причастия, не исповедавшись, и вот теперь он больше не может молиться — физически не в состоянии молиться… Что это значит «молиться»? Надо молиться, а он больше не может, он плачет; нет, он и не плачет, у него нет слез; плач подобен молитве, а кто уже не может молиться, разве еще может плакать? В ушах у него стоит грохот взрыва. Может быть, даже и минуты не прошло с того мгновения, когда этот чудовищный грохот отделил его от всего мира… Все, что сейчас происходит, — это видение вне времени… время исчезло, и слух исчез…
Этот взрыв, оглушивший его, это и есть смертный грех. Я преступил пятую заповедь… Ведь я хотел, чтобы умерли люди! Почему? Сейчас я уж и не знаю — почему. Господи! Как же я мог быть таким безумцем, что пожелал смерти людям? А теперь я сам умираю… И лишь о том скорблю, что умираю с тяжким грехом на душе. Справедливо, господи, что я умираю, да будет воля твоя. О-ох! Господи милостивый, призови меня к себе, только не делай мне так больно. За что ты так жестоко казнишь меня, ты же спаситель наш… Я не хотел убивать людей, право, не хотел… Я и себя не хотел убивать… Я не наложил на себя руки… Я не самоубийца!
Мрак этого слова упал на умирающего, заволок ему глаза, наполнил грудь с переломанными ребрами, больно коловшими легкие. Самоубийство! И тут Бернар Бломе вспомнил. Грех. Не взрыв — а совершенный грех. Он видит перед собой поселок Бюльтия, священника, стальной его крест, слышит слова: «Вы не хотите, сын мой, чтобы я принял вашу исповедь?» И вспоминает свой отказ, кощунственные речи… Бог покарал его. Он умрет без исповеди, без покаяния. Никто не скажет ему: «отыди с миром», не отпустит грехов, не осенит крестным знамением… Ах, господи, как же ты жестоко отомстил мне. Ай! ай!.. Муки телесные и муки душевные, соединившись, терзают умирающего…
Снова перед его глазами пылает дом у дороги, дымится высокий остов, пробоины, как пронзенные ребра; немецкие бомбардировщики кружат над полем, и все поле усеяно трупами, разбитыми пушками, горящими грузовиками. Поле — вон оно поле, где он рыл могилу. Как болит нога! Неужели я мог когда-нибудь нажимать ногой на заступ?.. О-ох! Даже подумать об этом страшно… На земле, среди взрезанных черных комьев, вытянулся труп высокого худого человека с окровавленным лицом… Господи, ты видел его рот после того? Знаю, знаю, он совершил великий грех, ему было отказано в прощении. Но если я благословил самоубийцу, если я виновен в таком кощунстве, господи, то разве не потому я совершил кощунство, что ты сам поставил меня на пути того несчастного и привел меня к краю его могилы? Не возражай на слова мои, боже милостивый, ведь по твоей воле я оказался там, по твоей воле я вот этой рукой, освящавшей прежде остию[729], рукой, освящавшей остию… О, матерь божия, пронзенная семью мечами. Ай!
А теперь, господи, ты отказываешь своему слуге в спасении, не хочешь дать мне то, что ты моей рукою дал навеки проклятому грешнику, то, что ты дал ему ценою спасения бессмертной моей души. Боже несправедливый, несправедливый и непостижимый!.. Ты же видишь — меня ждет ад, я кощунствую… Ай! Да ведь я уже в аду. Где же еще, как не в аду, могут быть такие муки!
Аббат Бернар Бломе, отчаявшись в спасении своей души, умер в тот час, когда генерал Молинье и генерал Дам во главе чисто символических полков, вооруженных чисто символическим оружием, проходили перед генералом-победителем, а за ними следовали разоруженные колонны, которым военные почести оказаны были весьма условно. О, муки, муки человеческие! Бывают минуты, когда лучше умереть.
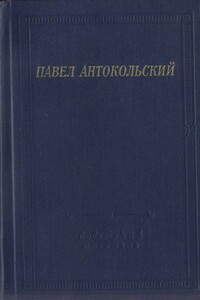
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.
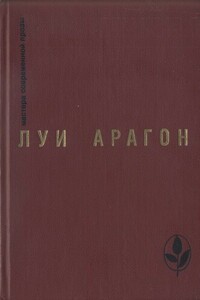
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.

«Орельен» — имя главного героя и название произведения — «роман итогов», роман о Франции не просто 20-х годов, но и всего двадцатилетия, так называемой «эпохи между двух войн». Наплывом, как на экране, обрисовывается это двадцатилетие, но от этого не тускнеет тот колорит, который окрашивал жизнь французского общества в годы первых кризисов, порожденных мировой империалистической войной. Основное, что противопоставляет этот роман произведениям о «потерянном поколении», — это трактовка судьбы главного героя.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.
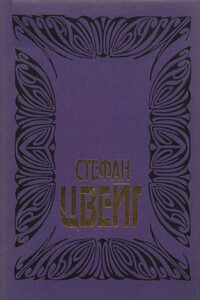
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881—1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В первый том вошел цикл новелл под общим названием «Цепь».

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.
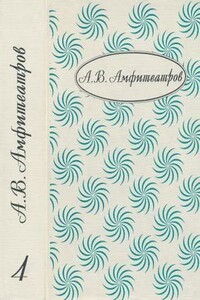
В четвертый том вошел роман «Сумерки божков» (1908), документальной основой которого послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В персонажах романа узнавали Ф. И. Шаляпина и М. Горького (Берлога), С И. Морозова (Хлебенный) и др.
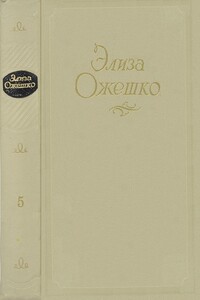
В 5 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли рассказы 1860-х — 1880-х годов:«В голодный год»,«Юлианка»,«Четырнадцатая часть»,«Нерадостная идиллия»,«Сильфида»,«Панна Антонина»,«Добрая пани»,«Романо′ва»,«А… В… С…»,«Тадеуш»,«Зимний вечер»,«Эхо»,«Дай цветочек»,«Одна сотая».


