Колыбель в клюве аиста - [9]
И вел нас прямо к мельницам, и не дальше, не в пятый и шестой лески, манившие, как и все неблизкое, малодоступное, ароматом романтики ― нет, Садык начисто лишен поэзии, его деятельная, хотя и не очень-то простая душа искала наивыгоднейшего решения. Вел он нас во второй лесок, что лежал всего в полутора-двух километрах выше верхней, самой дальней мельницы. Зато с первыми лучами солнца ― одно дело увидеть восход дома, другое ― в горах, где кажется, что солнце не выкатывается, а выжимается таинственными силами из недр земли; в горах особенно ощутима уникальность солнца ― и вот с первыми лучами его мы были у цели, на нижней окраине леска...
― Вон сарымсак, ― говорил Садык. ― Куда уставились? Солнца не видали?
На первой же поляне, на фоне изумрудно-зеленого дымился, голубел сарымсак.
― Устроим хашар, а? Неужели, дураки, не слышали о хашаре? ― спросил Садык. ― Не слышали? Нет? Чему учат в школе?
Из слов его, путаных, обрывистых, выяснилось: хашар ― это когда всем миром приходят на подмогу близким. Предложение использовать правила хашара мы приняли с воодушевлением. Первой наполнилась сарымсаком моя сумка. Затем помогли Жунковскому. Казалось, хашар заработал, набирая обороты. Однако Садык вдруг оставил поляну, повел в глубь леса в маленький каменистый саек, где у ручья, по бокам его, на жирной почве высились крохотные островки сарымсака. И какого?! Сарымсак у ручья был повыше, посочнее, потоварнее; таскать его из жирного чернозема, к тому же из подсыревшего, было одно удовольствие.
― Тут, ― произнес Садык. Он раскатал сверток, оказавшийся настоящим мешком; добавил: ― Самый раз для хашара.
Собрались обедать, на огромные листы пучек выложили еду. И вот тут, в самом начале трапезы, случилось непредвиденное. Неожиданно преобразился Жунковский, мелко-мелко задрожали пальцы его рук. Такое было с ним не раз, когда он по-настоящему нервничал, и когда Садык, не скрывая удовольствия, первым потянулся за едой, сломал лепешку, со словами "похаваем, дураки, что ли" стал есть, Жунковский вспыхнул.
― Поищи дураков в другом месте! ― выпалил он, побледнев.
Садык на секунду-другую обмер, перестал жевать, уставился на Жунковского.
― Ты что? ― произнес он изумленно.
― А то, что нечестно, ― сказал Жунковский.
― Я нечестный? ― не понял Садык.
― Ты! И все это... Хашар твой!
― Я?
― Ты!
― Я?
― Ты!
― Ведь могу, пацан, намылить за такие слова.
― Ты! ― не сдавался Жунковский.
― Пацан, возьми слова назад! ― вскочил на ноги Садык.
Поднялся на ноги и Жунковский. Я поспешно встал между ними, но Садык отстранил меня в сторону, да так, что, не удержавшись, я плюхнулся в куст арчи. Поднявшись, увидел: Садык и Жунковский стояли лицом к лицу. Контраст был очевиден: по одну сторону, с трудом сдерживая в себе ярость, стоял могучий Садык, по другую ― длинношеистый, миниатюрненький Жунковский; Садык был облачен в штаны с живописными заплатками, Жунковский ― в аккуратненькие шорты и в чистую рубашку; Садык стоял, приняв надменную позу, Жунковский ― этаким петушком со стиснутыми кулачками.
― Берешь, пацан, слова назад? ― продолжал Садык.
― Ты! Ты! Ты!
― Считаю до десяти, ― предупреждал Садык, почему-то взглянув на меня, на обед, аппетитно разложенный на траве, ― раз, два, три...
― Двадцать, тридцать, пятьдесят, ― дерзко передразнил Жунковский, ― до тысячи считай ― не ударишь!
― Не ударю? ― удивился Садык.
― Нет!
Садык медленно извлек из карманов руки.
― Двести, триста, четыреста, ― смеялся сквозь слезу Жунковский. ― Ну, бей!
Я видел, как сжимались ладони Садыка в кулаки ― казалось, они вот-вот обрушатся на Жунковского. Я знал силу и мощь его кулаков (сколько они сокрушали на моих глазах!); неотвратимость драки, точнее, избиения, пугали, но кулаки Садыка, готовые заработать сумасшедшей мельницей, вдруг стали разжиматься.
― Ладно, ― смилостивился он. ― Прощаю.
― Без "ладно" ― бей!
― Ладно, говорю, ― обрезал Садык и, обернувшись ко мне, сказал полугрозно, полужалостливо: ― Думаешь, струсил... Пацанят не бью ― жалко... ― Демонстрируя безразличие, он смачно зевнул. ― В животе ― фокстрот: как хотите, а я похаваю.
Как ни в чем не бывало, Садык принялся есть. Присоединился к нему и я.
Жунковский обедать наотрез отказался.
― Поколупаю серы,― сказал он мне и двинулся в лесок.
"Неужто, ― думал я, ― Садык не решился на драку из-за боязни остаться без обеда? А мешок? Сколько напихано ― не то, что тащить ― сдвинуть с места одному не под силу? Наверняка попросит помощи ― тащить, как пить дать, придется гамузом. Откажись мы с Жунковским помочь, как-то ему управиться тогда с мешком?.. Нет, не выгодно драться Садыку!.."
Непонятным было и то, как быстро осекся Жунковский. И тут почудилась корысть: Садык обещал на днях взять нас в ночное. Оставалось дело за малым ― обговорить просьбу со старшим конюхом; тот, по словам Садыка, ни в чем ему не отказывал. "Что, если Жунковский отступил, вспомнив о предстоящей вылазке с Садыком в ночное? ― думал я. ― Какой ему прок от ссоры?"
Поев, Садык дал храпака. Он спал, бормоча вслух ругательства ― уж не с Жунковским ли выяснял во сне отношения?
Я двинулся в лесок, думал, встречу Жунковского разобиженного, а может быть, даже и плачущего, но обернулось иначе: еловая шишка сверху стукнула мне о спину, одновременно раздался голос смеющегося Жункового ― сидел он верхом на суку ели, как ни в чем не бывало, весело колупая серу.

Книга дает возможность ощутить художественный образ средневекового Мавераннарха (середина XV в.); вместе с тем это — своеобразное авторское видение молодых лет создателя империи Тимуридов, полных напряженной борьбы за власть, а подчас просто за выживание — о Тимуре сыне Торгая, известного в мировой истории великого государственного деятеля и полководца эмира Тимура — Тамерлана.

Роман охватывает четвертьвековой (1990-2015) формат бытия репатрианта из России на святой обетованной земле и прослеживает тернистый путь его интеграции в израильское общество.

Сборник стихотворений и малой прозы «Вдохновение» – ежемесячное издание, выходящее в 2017 году.«Вдохновение» объединяет прозаиков и поэтов со всей России и стран ближнего зарубежья. Любовная и философская лирика, фэнтези и автобиографические рассказы, поэмы и байки – таков примерный и далеко не полный список жанров, представленных на страницах этих книг.Во второй выпуск вошли произведения 19 авторов, каждый из которых оригинален и по-своему интересен, и всех их объединяет вдохновение.
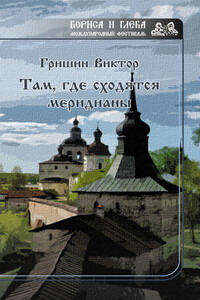
Какова роль Веры для человека и человечества? Какова роль Памяти? В Российском государстве всегда остро стоял этот вопрос. Не просто так люди выбирают пути добродетели и смирения – ведь что-то нужно положить на чашу весов, по которым будут судить весь род людской. Государство и сильные его всегда должны помнить, что мир держится на плечах обычных людей, и пока жива Память, пока живо Добро – не сломить нас.

Какие бы великие или маленькие дела не планировал в своей жизни человек, какие бы свершения ни осуществлял под действием желаний или долгов, в конечном итоге он рано или поздно обнаруживает как легко и просто корректирует ВСЁ неумолимое ВРЕМЯ. Оно, как одно из основных понятий философии и физики, является мерой длительности существования всего живого на земле и неживого тоже. Его необратимое течение, только в одном направлении, из прошлого, через настоящее в будущее, бывает таким медленным, когда ты в ожидании каких-то событий, или наоборот стремительно текущим, когда твой день спрессован делами и каждая секунда на счету.

Коллектив газеты, обречённой на закрытие, получает предложение – переехать в неведомый город, расположенный на севере, в кратере, чтобы продолжать работу там. Очень скоро журналисты понимают, что обрели значительно больше, чем ожидали – они получили возможность уйти. От мёртвых смыслов. От привычных действий. От навязанной и ненастоящей жизни. Потому что наступает осень, и звёздный свет серебрист, и кто-то должен развести костёр в заброшенном маяке… Нет однозначных ответов, но выход есть для каждого. Неслучайно жанр книги определен как «повесть для тех, кто совершает путь».

Секреты успеха и выживания сегодня такие же, как две с половиной тысячи лет назад.Китай. 482 год до нашей эры. Шел к концу период «Весны и Осени» – время кровавых междоусобиц, заговоров и ожесточенной борьбы за власть. Князь Гоу Жиан провел в плену три года и вернулся домой с жаждой мщения. Вскоре план его изощренной мести начал воплощаться весьма необычным способом…2004 год. Российский бизнесмен Данил Залесный отправляется в Китай для заключения важной сделки. Однако все пошло не так, как планировалось. Переговоры раз за разом срываются, что приводит Данила к смутным догадкам о внутреннем заговоре.