Книги нашего детства - [8]
Шамана несет волна экстатического ритма. Сказитель фольклора безостановочно импровизирует, опираясь на огромное количество готовых, «стандартных» элементов — словесных, фразовых, композиционных и прочих: фольклор — материал для создания фольклорного произведения. Для импровизированного литературного произведения таким материалом стала городская культура в разных своих проявлениях, особенно — низовых, массовых. Чем напряженней импровизационность литературного творчества, тем чаще возникают в нем сознательные или безотчетные «цитаты», перефразировки, аллюзии «чужого слова», мелодии чужих ритмов, рефлексы чужих образов. Без этого импровизация попросту невозможна, и аллюзионность, входящая — в разной мере — в состав многих стилей, стилю импровизационному свойственна органически. Память импровизатора — особая, не сознающая себя, «беспамятная память». Сознательная установка критика на синтез воплощалась в непроизвольном синтезе поэта.
Однажды Илья Ефимович Репин, рассказывал Чуковский, вошел к нему в комнату, когда он читал кому-то повесть Ф. М. Достоевского «Крокодил, необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже»: «Вошел и тихо присел на диванчик. И вдруг через пять минут диванчик вместе с Репиным сделал широкий зигзаг и круто повернулся к стене. Очутившись ко мне спиной, Репин крепко зажал оба уха руками и забормотал что-то очень сердитое, покуда я не догадался перестать»[22]. Странное поведение Репина и то, о чем «догадался» Чуковский, останутся загадкой, если не вспомнить, что со времени выхода повести «Крокодил, необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже» критика считала ее пасквилем на вождя русской революционной демократии Чернышевского. Автор повести с негодованием отвергал самую возможность такого пасквиля, и современные исследования подтверждают правоту писателя, но Репин, несомненно, находился под влиянием неправого толкования. Его выходка — демонстрация протеста против чтения «пасквиля».
Эпизод этот в воспоминаниях Чуковского не датирован, но по расположению в тексте его следует отнести к 1915 году. Тогда же или чуть позднее в вагоне пригородного поезда Чуковский начал импровизировать стихи, чтобы отвлечь больного ребенка от приступа болезни, еще не зная, что его импровизация — начало будущей сказки. Недавнее чтение «Крокодила» Достоевского закрепилось в памяти Чуковского бурным (и, как мы теперь знаем, необоснованным) протестом Репина. Импровизированный стих особенно охотно вбирает все то, что лежит «близко» — в наиболее свежих отложениях памяти, и, весьма возможно, Чуковский стал перекладывать в стихи (скорей всего — бессознательно) образы и положения повести Достоевского. Во всяком случае, сходство двух крокодилов — так сказать, внеидеологическое, ситуативное, типологическое — очень велико.
Сюжетные обязанности обоих крокодилов (у Достоевского на протяжении всей незаконченной повести и у Чуковского в первой части сказки) очень просты и сводятся к одному: к глотанию, проглатыванию. «Ибо, положим, например, тебе дано устроить нового крокодила — тебе, естественно, представляется вопрос: каково основное свойство крокодилово? Ответ ясен: глотать людей. Как же достигнуть устройством крокодила, чтоб он глотал людей? Ответ еще яснее: устроив его пустым»[23], — с издевательским глубокомыслием сообщает повесть Достоевского. Перед нами предначертание (или проект) «устройства» крокодила, и Крокодил Чуковского «устроен» в точности по этому проекту. Его Крокодил тоже глотает — правда, не чиновника, а городового, но как тот был проглочен в сапогах, так и этот попадает в крокодилово чрево «с сапогами и шашкою». Про обоих можно сказать словами повести: «без всякого повреждения»[24] — или словами сказки:
В сказке Чуковского при ближайшем рассмотрении обнаруживается несколько крокодилов. Приглядимся к тому из них, который остался незамеченным, так как прямо не участвует в перипетиях сказки, а лишь присутствует в рассказе Крокодила Крокодиловича о Петрограде:
В такой же обстановке предстает перед читателем крокодил Достоевского: «… Стоял большой жестяной ящик в виде как бы ванны; накрытый крепкою железною сеткой, а на дне его было на вершок воды. В этой-то мелководной луже сохранялся огромнейший крокодил, лежавший как бревно, совершенно без движения и, видимо, лишившийся всех своих способностей…» «Мне кажется, ваш крокодил не живой», — кокетливо замечает некая дамочка в повести Достоевского[25]. «Измученный, полуживой», — говорится в сказке Чуковского. Если сравнить эти два фрагмента, может показаться, будто Крокодил Чуковского, вернувшись в Африку, рассказывает там своим собратьям — о крокодиле Достоевского! Тема дурного обращения с животными, развернутая во второй и третьей частях сказки, сразу перебрасывает мостик между двумя «Крокодилами»: зверинцы есть и у Достоевского. Герой его повести был проглочен крокодилом в тот момент, когда собирался в заграничную поездку — «смотреть музеи, нравы, животных…»
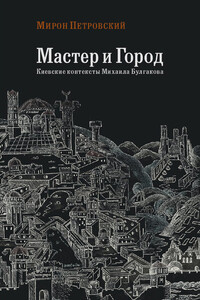
Книга Мирона Петровского «Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова» исследует киевские корни Михаила Булгакова – не в очевид ном биографическом аспекте, а в аспекте творче ском и культурно-педаго гическом. Ее тема – происхождение такого мастера, как Михаил Булгаков, из такого города, каким был Киев на рубеже ХIХ и ХХ столетий. Культура этого города стала для него неисся каемым источником творчества. Перефразируя название книги, популярной в годы юности писателя, книгу М. Петровского можно было бы назвать «Рождение художника из духа города».

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».