Книги нашего детства - [7]
Вот откуда у Чуковского многочисленные подступы к литературе для детей — быть может, самому естественному проявлению демократической культуры. Страстный книгочей с огромным теоретическим даром, Чуковский должен был задуматься над общеизвестным (и потому — привычным, не задевающим мысль) фактом непрерывного «опускания» произведений «высокой» классики по возрастной лестнице. В самом деле, — едва ли не самые задиристые книги, отыграв свою боевую публицистическую роль, с поразительным постоянством переходили в детское чтение: «Дон Кихот» и «Путешествие Гулливера», «Приключения Робинзона Крузо» и «Хижина дяди Тома», «Макс Хавелаар» и сказки Пушкина, басни Крылова и «Конек-Горбунок». Чуковский осмыслил книги для детей — возрастную рубрику — как рубрику своеобразно социальную, как наиболее демократический пласт литературы. Механизмы демократической культуры Чуковский изучал разными способами, в том числе — на материале детского мышления, и поставил знак равенства между ним и мышлением фольклорным («От двух до пяти»).
И когда от теоретизирования в этой области Чуковский перешел к художественному творчеству, у него получился «Крокодил», открывший длинный список сказочных поэм. Сказки Чуковского — «мои крокодилиады», как именовал их автор, — представляют собой перевод на «детский» язык великой традиции русской поэзии от Пушкина до наших дней. Сказки Чуковского словно бы «популяризуют» эту традицию — и в перевоплощенном виде («повторный синтез») возвращают народу, его детям.
Своим крупным и чутким носом — излюбленной мишенью карикатуристов — Чуковский мгновенно улавливал социально-культурные процессы начала XX века. От Чуковского не укрылось ни то, что низовые жанры искусства — рыночная литература, цирк, эстрада, массовая песня, романс и кинематограф — сложились в новую и жизнеспособную систему, ни то, что эта система переняла у фольклора ряд его общественных функций. Эстетический язык социальных низов и их жизнечувствование, которые художник XIX века находил непосредственно в фольклоре, теперь все очевидней обнаруживались в «массовой культуре», вобравшей в себя простейшие — и основные — фольклорные модели. Будущий историк, несомненно, осмыслит тот факт что «кич» сложился и был открыт как раз тогда, когда эпоха традиционного фольклора шла к своему естественному завершению. Для демократических городских масс «кич» стал заменителем фольклора в бесфольклорную эпоху, а для высокого искусства — от Блока и далее — «источником», каким прежде был фольклор.
В «массовой культуре» Чуковский увидел явление далеко не однозначное, требующее тонкой различительной оценки. Никакого восторга у него не вызывало свойственное «кичу» превращение традиции — в штамп, творчества — в производство, поиска путей к человеческому уму и сердцу — в расчетливое нажатие безотказных рычагов. Как человек культуры, Чуковский должен был отвергнуть «массовую культуру» за эстетическую несостоятельность, а как демократ — должен был задуматься: чем, собственно, привлекателен «кич» для масс, что делает его массовым?
Оказалось, «кич» воздействует своими элементарными, но выработанными и проверенными тысячелетней практикой — потому неотразимо действующими — знаками эмоциональности. Эти знаки настолько просты, что в них стирается грань между сигналом об эмоции и эмоцией как таковой. В поисках киновыразительности подобную задачу решал для себя С. Эйзенштейн, и ход мысли привел его к цирку — эстетическому явлению, которое вроде бы никак не подходит под бытующие определения фольклора (цирк не «изустен», не «коллективен» и вообще не «словесен»), но тем не менее — глубоко фольклорному по своей природе. Цирк оказался как раз тем видом массового искусства, который с наибольшей полнотой и сохранностью «законсервировал» мифологические и фольклорные «первоэлементы» — простейшие сигналы эмоций, неотличимые от эмоций, — и непрерывно работает с ними. Переосмыслив заимствованное из циркового обихода слово, Эйзенштейн назвал свое открытие «монтажом аттракционов» и перенес его в искусство кино[21].
Подобное открытие Чуковский совершил дважды: в первый раз теоретически — как аналитик — в статье «Нат Пинкертон и современная литература», во второй — как поэт — в «Крокодиле». В массовой культуре он открыл такие фольклорно-мифологические средства воздействия (суггестии), которые могут быть использованы для создания высоких художественных ценностей. И если до сих пор мы видели в «Крокодиле» некую «популяризацию» высокой традиции русской поэзии, «перевод» ее на демократический язык детской сказки, то теперь можно добавить, что в «Крокодиле» был осуществлен экспериментальный синтез этой высокой традиции — с традицией низовой, фольклорной и даже кичевой. Вот почему «идейные» смыслы «Крокодила» так неуловимы и с трудом поддаются истолкованию: они выводятся не столько из образов и ситуаций сказки Чуковского, сколько (и в первую очередь) из смысла осуществленного в ней эксперимента.
Самозабвенно, «как шаман» (по собственному сравнению Чуковского), и почти безотчетно, как сказитель фольклора («не думал, что они имеют какое бы то было отношение к искусству», — по его же утверждению), он импровизировал строки сказки:
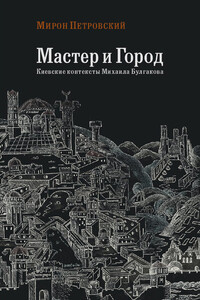
Книга Мирона Петровского «Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова» исследует киевские корни Михаила Булгакова – не в очевид ном биографическом аспекте, а в аспекте творче ском и культурно-педаго гическом. Ее тема – происхождение такого мастера, как Михаил Булгаков, из такого города, каким был Киев на рубеже ХIХ и ХХ столетий. Культура этого города стала для него неисся каемым источником творчества. Перефразируя название книги, популярной в годы юности писателя, книгу М. Петровского можно было бы назвать «Рождение художника из духа города».

Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время. Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.