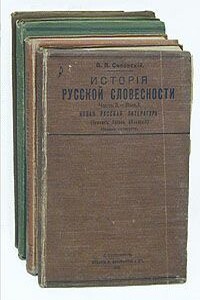Книги нашего детства - [12]
И Чуковский стал переносить в литературу то, что составляет своеобразие кинематографа и неотразимо впечатляет зрителей: динамическое изображение динамики, движущийся образ движения, быстроту действия, чередование образов. Особенно это заметно в первой части сказки: там стремительность событий вызывает почти физическое ощущение ряби в глазах. Эпизод следует за эпизодом, как один кадр за другим. В позднейших изданиях сказки автор пронумеровал эти кадры — в первой части сказки их оказалось более двадцати, а текст стал напоминать стихотворный сценарий. Одну из следующих своих «крокодилиад» — «Мойдодыр» — Чуковский снабдит подзаголовком: «Кинематограф для детей».
И поскольку сказка оказалась сродни кинематографу, в нее легко вписалась сцена, поразительно похожая на ту, которую Чуковский незадолго перед этим увидал на экране — в ленте «Бега тёщ». В «Крокодиле» тоже есть «бега» — преследование чудовища на Невском:
А тещи в кинематографе бегут так: «…Бегут, а за ними собаки, а за ними мальчишки, кухарки, полиция, пьяницы, стой, держи! — бегут по большому городу. Омнибусы, кэбы, конки и автомобили, — они не глядят, бегут…»[35] Здесь даже образы те самые, которые появятся потом на рисунках Ре-Ми, и «узнаваемость» их велика, а интонация прозы очевидным образом предваряет интонацию стиха в «Крокодиле». Но прежде всего «кинематографичность»: быстрота чередования зрительных впечатлений.
С появлением «Крокодила», писал Тынянов, «детская поэзия стала близка к искусству кино, к кинокомедии. Забавные звери с их комическими характерами оказались способны к циклизации; главное действующее лицо стало появляться как старый знакомый в других сказках. Это задолго предсказало мировые фильмы — мультипликации…»[36]
Кроме «Двенадцати» Блока, в русской поэзии трудно или невозможно найти другое произведение, которое вобрало бы столько «голосов» низовой, массовой культуры и, преследуя те же цели, подвергло бы их синтезу с высокой культурой, как «Крокодил». Надо прислушаться и, быть может, согласиться с мнением современных исследователей: «Уже сейчас вырисовывается основная смысловая линия подтекста сказки: „Крокодил“ представляет собой „младшую“, „детскую“ ветвь эпоса революции (и шире — демократического движения). В этом смысле „ирои-комическая“ поэма „Крокодил“ представляет собой интересную типологическую параллель к „большому“ революционному эпосу — поэме Блока „Двенадцать“. Последняя, как известно, также построена на цитатах и отсылках, источники которых частично совпадают с „Крокодилом“: газетные заголовки и лозунги, Пушкин, Некрасов, плясовые ритмы, вульгарно-романсная сфера…»[37]
Значит, не так уж много шутки в адресованном Чуковскому шуточном экспромте Тынянова:
Тынянов писал, что в детской поэзии до «Крокодила» «улицы совсем не было»[39]. Действительно, детская комната, площадка для игр и лоно природы были исключительным пространством детских стихов. Даже такие поэты города, как Блок и Брюсов, принимались изображать село и сельскую природу, чуть только начинали писать для детей.
Улицу (уже нашедшую себе место в прозе для детей) сказка Чуковского впервые проложила через владения детской поэзии. На страницах сказки живет бурной жизнью большой современный город, с его бытом, учащенным темпом движения, уличными происшествиями, проспектами и зоопарками, каналами, мостами, трамваями и аэропланами. Ритмическая насыщенность сказки и стремительность смены ритмов — не «формальная» особенность сказки, а смысловая составляющая нарисованной в ней урбанистической картины. Полиритмия «Крокодила» — стихотворное воплощение той «многострунности», в образе которой виделся город символистам (опять-таки Блоку и Брюсову, и еще Андрею Белому).
Наиболее напряженное место современной цивилизации — улица огромного города — сталкивается в сказке со своей противоположностью — дикой природой, когда на Невский проспект ринулись африканские звери — крокодилы, слоны и носороги, гиппопотамы, жирафы и гориллы. И, оказавшись на этой улице один, без няни («он без няни гуляет по улицам»!), маленький герой сказки не заплакал, не заблудился, не попал под лихача-извозчика или под трамвай, не замерз у рождественской витрины, не был украден нищими или цыганами — нет, нет! Ничего похожего на то, что регулярно случалось с девочками и мальчиками на улице во всех детских рассказиках (особенно рождественских и святочных), не произошло с Ваней Васильчиковым. Напротив, Ваня оказался спасителем бедных жителей большого города, могучим защитником слабых, великодушным другом побежденных — одним словом, героем. Ребенок перестал быть только объектом, на который направлено действие поэтического произведения для детей, и превратился в поэтический субъект, в самого действователя.
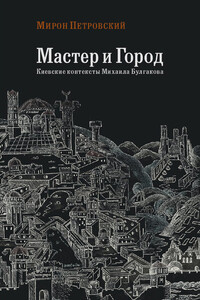
Книга Мирона Петровского «Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова» исследует киевские корни Михаила Булгакова – не в очевид ном биографическом аспекте, а в аспекте творче ском и культурно-педаго гическом. Ее тема – происхождение такого мастера, как Михаил Булгаков, из такого города, каким был Киев на рубеже ХIХ и ХХ столетий. Культура этого города стала для него неисся каемым источником творчества. Перефразируя название книги, популярной в годы юности писателя, книгу М. Петровского можно было бы назвать «Рождение художника из духа города».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.