Ключи заветные от радости - [91]
Парень охнул, закачался со стороны на сторону и попросил воды.
– Ну, а потом что? – с неумолимой жестокостью допытывался горбатый, став как бы безумным от страха и любопытства.
– Мало тебе, горбатому черту, рассказали? – накинулись на него остальные, сидевшие до сего времени как бы неживые.
– Потом что? – взяв опять крикливый тон, заговорил парень. – Вызвали пулеметную команду да по народу… тра-та-та-та… За бунт и возмущение против власти!.. Душ пятьдесят, не считая раненых… в расход вывели…
Пить никто не хотел. Они долго сидели нахмуренными, а потом все стали расходиться.
Сапог я не мог починить. Мое сознание держалось на тонкой паутинке. Колыхнись она немножко, и я стал бы безумным.
Иду берегом Волги, по древней Тверской дороге. Осень не витает уж легкой солнечной паутиной, а исходит ветрами и неуемными дождями. Ноги мои вязнут в грязи. Руки и лицо мое леденит колючий предзимник. Земля потемнела. Идти тяжело. Никакого жилья не видно. Стала донимать меня слабость. Кружилась голова, и подкашивались ноги. Старался приободрить себя и трунил над собою: «Что же это ты, отец Афанасий, сдаешь? А ну-ка, ну-ка, с ветром в ногу… встряхнись… поспешай!., раз, два, три!..»
Но как ни ободрял себя, пришлось мне сесть на придорожный камень и забыться…
Долго ли я был в забытьи – не ведаю, но только почувствовал: кто-то поднимает меня и сажает на телегу. Помню, что вся земля закружилась перед глазами, словно граммофонная пластинка.
В тягостном, черном бреду я все время видел, как комиссар Вознесенский причащал народ самогоном и как будто бы вместе с разъяренным народом я бил его чем-то холодно-тяжелым по всему хрусткому, а потом прятался в каких-то черных садах и тосковал и плакал о преступлении своем… Но больше всего меня мучило бесчисленное количество белых сверкающих рук, старавшихся сорвать с груди моей священный антиминс…
Больше двух месяцев находился я между жизнью и смертью.
Сидел на полатях, рассматривал руки свои, и мне жалостно было смотреть на них – желтые и ломкие, как свечи в морозном храме… И думал о себе, покивая главою: слабый все же я человек!.. Не могу закалить себя, вооружиться крепостью и мужеством… Если бы не рассказ о причащении самогоном, может быть, ничего и не случилось бы… Слишком это страшно было, слишком не по силам мне, немощному!
Меня, оказалось, подобрали на дороге неподалеку от села местные крестьяне. Сам хозяин – нестарый чернобородый мужик с иконными глазами и жена его – маленькая исхудавшая женщина с испуганным взглядом (взгляд большинства русских женщин в наши дни). Черно и бедно было в избе. Обхаживали они меня, как сына родного, и ночами не спали. Когда я поправился немножко, то хозяева подошли ко мне под благословение. В удивлении спросил их:
– Откуда вы знаете, что я священник?
– Из твоего бреда узнали!..
Ввиду наступающих холодов упросили меня у них пока остаться. Однажды говорит мне хозяин:
– Отслужи ты нам Божию службу! Утешь страждущих. В церкви-то нельзя, народный дом там, а мы уж в овин соберемся. Все у нас будет в молчании…
Ночью привели меня в темный, дымом да копотью пахнувший овин на глухих задворках. При свете свечей приметил я, что все здесь было прибрано и вычищено. На столе, покрытом скатертью, стояли иконы и перед ними три лампады. Человек двадцать пришло на молитву. Отслужил я им всенощное бдение, а потом беседовал с ними. По привычке своей всем в глаза смотрел. Хороши русские глаза на молитве! Мироотречение в них и образ Божий…
Окреп я немножко, исполнил дело свое, распрощался и тронулся дальше.
Земля пахла морозом, но снега еще не было. От вечернего морозного зарева небо и земля казались медными. И тишина была, словно отлитая из меди, ударить по ней – и зазвучит. Деревня, часовня на горе, черные бревенчатые бани, похожие на Гостомыслову Русь, запах дыма.
У околицы стояла маленькая сгорбленная женщина в тулупе, черном монашеском платке, в тяжелых деревенских сапогах. Она облокотилась на березовую изгородь и смотрела на большую дорогу.
Я подошел к ней и окликнул ее приветствием.
Она вскинула на меня странные, болью какой-то пронзенные глаза свои и улыбнулась неживой улыбкой.
– Ты оттуда? – показала она озябшей рукою на пройденную мною дорогу.
– Да к вам в деревню иду!
– Так-так… А ты деток моих не встретил?
– Нет, никого не видел.
Она приложила руку к щеке и по-бабьи запечалилась:
– Жду их пожду, а они не приходят!
– Куда же они пошли?
– Воевать пошли с белыми!.. Люди сказывают, что они убиты, а я не верю. Врут люди!
Подула на свои окоченевшие пальцы и стала смотреть на дорогу.
– Должны прийти, – шептала она, смотря вдаль, поверх дороги, – я ведь старая и скоро помереть должна… да и голодно мне и зябко… Куда это они запропастились, баловники этакие?
Завидев кого-то вдали, она исступленно-радостно вскрикнула, сорвалась с места и побежала навстречу, вскидывая вперед озябшие руки.
– Идут, идут! – кричала она. – Детки мои! Родненькие!..
В деревне мне рассказали, что женщина эта помутилась в разуме, когда узнала о расстреле своих сыновей. С этого времени во всякую погоду она выходит за околицу встречать их и каждого встречного спрашивает:

По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА «И только храм остался для нас единственным уголком Святой Руси, где чувствуешь себя пригретым и обласканным». Святая Русь: ее люди, ее церквушки, бескрайние поля, вековые леса; радость праздников, запах ладана, пасхальных куличей… Радость и грусть — жива ли Святая Русь? Та, которую помнит душа и которой взыскует душа. На этот вопрос отвечают герои В. Никифорова-Волгина, отвечают тихой любовью и глубокой верой. Книга «Воспоминания детства» предназначена для семейного чтения.
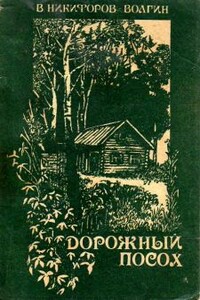
Василий Акимович Никифоров-Волгин (24 декабря 1900 (6 января 1901), деревня Маркуши Калязинского уезда Тверской губернии — 14 декабря 1941, Вятка) — русский писатель.Родился в д. Маркуши Калязинского уезда Тверской губернии в семье мастерового. Вскоре после рождения Василия семья переехала в Нарву. Не имея средств для окончания гимназии, Никифоров-Волгин в детстве и юности много занимался самообразованием, хорошо узнал русскую литературу. Его любимыми писателями были Ф. Достоевский, Н. Лесков, А. Чехов. С. Есенин.В 1920 году Никифоров-Волгин стал одним из организаторов «Союза русской молодежи» в Нарве, устраивающим литературные вечера и концерты.

Рассказы Василия Никифорова-Волгина — любимое чтение православной семьи. Его книга — поистине народная книга! В настоящем сборнике все тексты выверены по первоизданиям, включены ранее неизвестные произведения. Рассказы расположены согласно литургическому году, в порядке следования праздников. Впервые представлены литературные оценки душеполезных рассказов писателя, приведена по существу полная библиография его сочинений. Книга украшена оригинальными рисунками.

Накануне летних каникул родители задумываются, что выбрать для детского православного чтения: как сделать чтение на отдыхе душеполезным? В этой книге собраны рассказы русских писателей о летних приключениях детей, пройдя через которые маленькие герои приобретают немалый духовный опыт. Это захватывающее чтение для всей семьи, ведь взрослые тоже были детьми и когда-то впервые открывали мир Божий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.