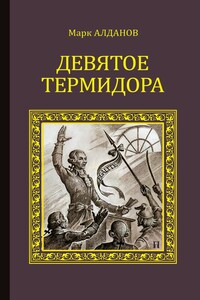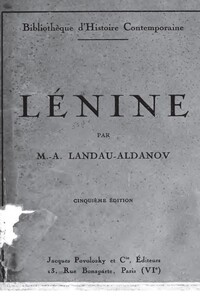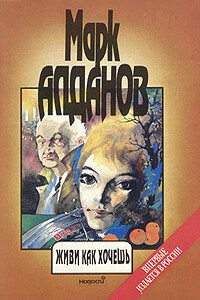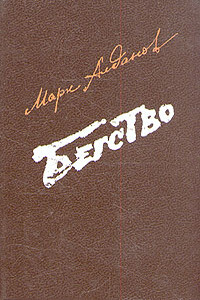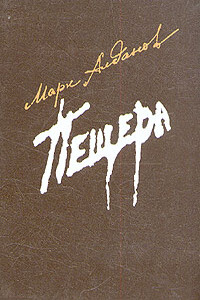адвокатом» — и этот эпитет чувствительно задел Кременецкого: обычно его в печати называли «известным»: а в одной провинциальной газете, в городе, куда он выезжал для выступления в суде, было даже сказано «наш знаменитый петербургский гость». Семен Исидорович, хмурясь, вернулся к сообщениям с фронтов и быстро пробежал весь отдел «Война». Бои шли на Стоходе и у Крево… Вновь замечено употребление турками разрывных пуль… Подпоручик Шнемер сбил двадцать третий немецкий аэроплан… В общем на фронте ничего особенного не случилось… Кременецкий вспомнил, что в скором времени предстоял его собственный двадцатипятилетний юбилей. «Это, конечно, как считать… Подогнать можно к сезону…» Семен Исидорович знал, что юбилеи почти никогда не организуются сами собой, по инициативе почитателей, и что заботиться о них необходимо либо самому юбиляру, либо его семье, — меняется же только маскировка, от очень дипломатичной до очень грубой. «Ну, еще много времени», — подумал он и перевернул страницу газеты. На второй странице два столбца были отведены новым сведеньям об убийстве Фишера. Сообщалось в довольно туманных выражениях, что задержан некий Загряцкий. Против него были серьезные улики. Кременецкий прочел все очень внимательно. Он был знаком с Фишером, как со всеми в Петербурге. Смерть банкира оставила его совершенно равнодушным: Кременецкий был не молод и не стар, — успел привыкнуть к чужим смертям и еще не очень думал о собственной. Но ему страстно хотелось получить это дело. «Если уж не мне, то хоть бы Якубовичу досталось, а не Меннеру и не другим шарлатанам», — подумал он. Мысль эта взволновала Семена Исидоровича. Он встал и вышел из кабинета.
Гостиная, купленная за большие деньги в Вене после одного дела, на котором Кременецкий заработал сразу тридцать тысяч рублей, резко отличалась от кабинета по стилю. В этой огромной комнате был и американский белый рояль, и голубой диван с приделанными к нему двумя узенькими книжными шкапами, и этажерки с книгами, и круглый стол, заваленный художественными изданиями, толстыми журналами. На стенах висели рисунки Сезанна, не очень давно вошедшие в моду у петербургских ценителей. Была и коллекция старинных рисунков, на один из которых хозяин обращал внимание гостей, замечая вскользь, что это подлинный Николай Зафури. Еще в другом роде был будуар, расположенный между кабинетом и гостиной. Здесь все было чрезвычайно уютное и несколько миниатюрное: небольшие шелковые кресла, низенькие пуфы, качалка в маленькой нише, крошечная полка с произведениями поэтов, горка русского фарфора и портрет Генриха Гейне в золотой рамке венком, искусно составленным из лавров и терний. Мебели вообще было много и, по расчету хозяев, они могли принимать до ста человек, перенося в парадные комнаты лучшие стулья из других частей квартиры. Впрочем, такие большие приемы устраивались чрезвычайно редко, а балов, по случаю войны, не давал никто.
В хрустальной люстре была зажжена половина лампочек. Поджидая хозяев, два помощника Кременецкого, свои люди в доме, вели между собой вечный разговор помощников присяжных поверенных — о размерах практики разных знаменитостей адвокатского мира и об их сравнительных достоинствах и недостатках. Один из помощников, Никонов, был во фраке, другой, Фомин, служивший в Земском Союзе, в темнозеленом френче, с тремя звездочками на погонах.
— Что же вы думаете, коллега, о деле Фишера? Убил, конечно, Загряцкий, — сказал Никонов.
— Позвольте, во-первых, не доказано, что Фишер был убит. Экспертизы еще не было.
— Какое же может быть сомнение? Без причины люди не умирают…
— Умирают на шестом десятке от таких «petits jeux» [5], которыми занимался Фишер… А, во-вторых, почему Загряцкий?
— Кто же другой? Другому некому.
— Позвольте, дорогой коллега, вы рассуждаете не как юрист. Onus probandi [6] лежит на обвинении, разумеется, если вы ничего против этого не имеете.
— Да что onus probandi, — сказал Никонов, — Загряцкий убил, какой тут onus probandi… А вот, что это дело от Семы не уйдет, — это факт.
— Бабушка надвое сказала, и даже, passez moi le mot [7], не надвое, а натрое или больше: если вам все равно, есть еще и Якубович, и Меннер, и Серд, и Матвеев, не говоря о dii minores [8].
— Нет, это дело не для них. Меннер хорош в военном, Якубович, — да, пожалуй, при разборе улик, Якубович, конечно, на высоте. А все-таки, где яд, кинжал, револьвер, серная кислота, там Сема незаменим. Он вам и народную мудрость зажарит, он и стишок скажет, он и Грушеньку, и Настасью Филипповну запустит.
— Достоевского знает, собака, как сенатские решения, — с уважением подтвердил Фомин.
— Если на антеллегентных присяжных, да со слезой, никто, как Сема. Разве из Москвы Керженцева выпишут.
— Керженцев меньше чем за пять не приедет. Ему на славу наплевать. Il s'en fiche [9].
— Ну, и три возьмет. С Ляховского, помните, всего две тысячи содрал.
— Позвольте, ведь когда это было? De l'histoire ancienne [10]. Теперь, Григорий Иванович, цены не те…
— А вот, помяните мое слова, Семе достанется дело, и он выиграет, как захочет.
— Оратор Божьей милостью…