Клинок Уреньги - [14]
А как-то раз, когда его друг, хожалый человек — много их тут проходило — узнал про Юлтаеву беду, сказал ему:
— И ты молчишь? И тебя Кудаш, как худого барана, за твою же подвесит ногу!
Когда же Щелкан сбежал из улуса, совсем потемнел Юлтай. Жалко было ему брата, а потому прежний страх перед баем Кудашем будто ветром с его сердца сдуло.
Но Сулея манила. Не мог он ее забыть. Хоть и понимал, что она во всем горе Щелкана виновата. Из-за нее он сбежал и от обиды на тархана Кудаша...
Но Сулея его так манила, что в одну из ночей, когда из-за грозы людям казалось, будто степи живыми стали, так гудела земля, не выдержал Юлтай и пошел искать Сулею.
Не веселым женихом шел он к Сулее, а волком затравленным или рысью пробирался.
И то ли ему ветер помогал и шум дождя, только стража не слыхала, как Юлтай возле коша Сулеи очутился.
Замигал огонь в каганце посередке коша от ветра, зашевелилась кошма у входа в кош и... Юлтай бросился к Сулее.
Но враз пошатнулся и осел. Кто-то ударил его в спину — раз, другой... Когда же пришел он в себя и огляделся, цепи загремели на ногах.
Крепко охранял свои богатства Кудаш, а за Сулею он собирался получить немало.
Без крика и вопля окаменела Сулея, увидав, как возле нее связывали Юлтая.
До рассвета просидела она возле того места, где в крови еще плавали кудри Юлтаевых волос.
А наутро, когда надо было входить к гостям и петь, Сулея первый раз вышла к ним без уборов и одетой в простую одежду. Кровь Юлтая все мерещилась ей на Кудашевых нарядах.
Щелкан же в это время все шел и шел. И чем дальше он уходил от степи, тем гуще становился лес на его пути, а потом пошел уж настоящий бурелом.
Но не страшно было в лесу парню.
К тому же говорится, что и под бурелом солнце проникает. Не задрожал Щелкан и тогда, когда с сохатым повстречался. Постоял, постоял зверь на дороге, поглядел на парня и тихонько скрылся за сосной. Известно — непуганый зверь.
Сколь шел Щелкан? Не помнил. Только на третий день пути, когда дремучий лес на горах показался и вечерняя мгла заползла под ельник, стал Щелкан место на ночлег выбирать. Оглядел низинку и вдруг увидел: под старой елью кто-то лежал.
Подошел Щелкан поближе и увидел на траве старика.
«По одеже, видать, урус», — подумал он про себя и наклонился над стариком.
В это время старик, может, во сне или от боли простонал:
— Пить, пить!..
Понял Щелкан, чего старик просил. Не раз доводилось ему встречать урусов, как называли башкиры беглых из-за Камня-гор.
Живо сбегал за водой к ручью. Набрал воды в шапку и подал старику.
Но много ли войдет в шапку? Сбегал еще раз и снова напоил деда. Присел возле него. А тот понемногу начал приходить в себя. Приподнялся с земли. Присел, но весь был мокрый. Видать, долго пролежал под дождем. Одежда его набухла, почернела чугунком.
— Тепло тебе надо. Огонь тебе надо. Жрать надо! — говорил Щелкан деду, а сам уже крутился по низине, собирая балаган.
Собрал. Развел костер. Перенес деда в балаган. От тепла старик и вовсе отошел. Повеселел. Дал ему Щелкан пол-утки, утром еще подбил — и сам поел. Старик с жадностью все съел, а потом долго грелся у костра и, как малое дитя, уснул.
Без малого три дня провозился Щелкан с дедом, будто за отцом ходил. Еды хоть отбавляй — сама в костер птица лезет, да и дождик перестал.
Ну, а когда деду вовсе полегчало, конечно, разговорились. К тому, любя поговорить, Щелкан помнил: «Речь у костра слаще кумыса».
Рассказал Щелкан деду про себя, и про Кудаша, и про Сулею, а потом вспомнил слова Сулеи про чудские клады.
И дед поведал Щелкану про себя.
— Не варнак я с большой дороги, — говорил он, — камнерез я и бежал из Печоры. Немало нашего брата от царской неволи бегут и сейчас сюда, на Камень. Ты от тархановой плети убег, а я из-за ворюги-воеводы. Вот и выходит: одна у нас с тобой тропа. Поглянулось мне на Камне: и приволье и от царского глаза спрятан, земля-воля. Вот и осел я здесь: самоцветы добываю, а он, самоцвет-то, не вино, а голову кружит, да так, что в самую студеную пору в копушке станет жарко. Вот и кормлюсь, да и внучку-сиротку кормлю. И одежа моя худа и жизнь не баска, а живу оттого, что волен. Нет дороже для человека воли. Пущай воробей — и тот воли хочет.
До рассвета проговорили они. И когда дед вовсе повеселел и над горами поднялась заря, пошел Щелкан вместе с дедом. Власом его звали. Будто сын с отцом пошли они рядом. Плечом к плечу. Сердце к сердцу.
И хоть недалека была дорога до избушки Власа, но о многом они переговорили. Главное — рассказал дед Щелкану о кладах чуди.
— Ты про клады старых людей и девку Сулею забудь, — говорил он. — Знаю, где они зарыты, эти клады, только ни тебе, ни мне они ни к чему. Клады эти народа. Ушла белоглазая чудь под землю, когда на нее враг напал, и сокровища свои в тайном месте скрыла. Помни, парень, самое страшное для человека — на добро людское зарить глаз. Пущай лежат эти клады. Можа, и народу пригодятся. Пущай мои руки чисто пешни — в коростах и мозолях, но они, посчитай, почище воеводских или байских, чужого добра не берут. Без корысти и сердце мое. Вот оно, дело-то, какое. Ну, а девка твоя, сдается мне, из корыстных, а про корысть еще наши деды говорили: «Корысть до порога, совесть на всю жизнь».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сказы С. К. Власовой посвящены теме горнозаводского Урала, дружбе русского, татарского и башкирского народов. В них прославляется сила, удаль, благородство людей, открывавших богатейшие месторождения руд и минералов, трудолюбие уральских рабочих.
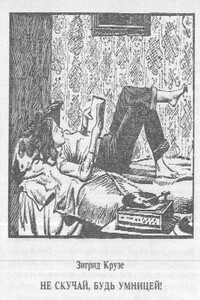
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Любава очень любит море. Мама говорит, что она впитала эту любовь вместе с материнским молоком. Маму зовут Марина, что в переводе на русский язык означает „морская“. Она не прочь напомнить окружающим, что её далёкими предками были нимфа и сам морской царь Нептун. В доказательство своего происхождения она приводит тот факт, что на 70 % состоит из воды…».

Повести Александра Торопцева рассказывают о жилпоселке, каких по всей России много. Мало кто написал о них так живо и честно. Автору это удалось, в его книге заговорили дети и взрослые, которые обычно являются лишь слушателями и зрителями. Эти истории пронизаны любовью и щемящей ностальгией по детству и дружбе.

Сборник болгарских сказок в пересказах Георгия Русафова. Иллюстрации легенды болгарской книжной графики Л. Зидарова. Издательство Свят (София)

