Клаузевиц - [68]
Труд Клаузевица включает три преимущественно философские части и пять частей, в которых рассматриваются в стратегическом отношении отдельные вопросы войны. Наиболее философскими частями, представляющими еще совершенно не остывший интерес, являются: первая часть, трактующая о природе войны и требованиях, которые предъявляются войной полководцу, и представляющая собой как бы введение к основной теме труда; вторая часть — о теории войны, в которой Клаузевиц-философ устанавливает методологические рамки, в которых должно развиваться исследование войны, и, наконец, восьмая часть — «план войны», представляющая как бы заключение, написанное позже других частей, в котором мысль Клаузевица достигает высшей зрелости и дает синтез разобранных в отдельности в пяти частях элементов стратегии. Во многом в восьмой части своего труда Клаузевиц возвращается к вопросам, разобранным в первой части, и дает им уже значительно более ясное и отчетливое освещение[23].
Основное достоинство труда Клаузевица заключается в диалектическом методе изучения явлений войны, в установлении положения, что война является послушным орудием политики, но интерес представляет и трактовка Клаузевицем частных вопросов стратегии. Клаузевиц, отрицающий всякий догматизм, является автором многих разнообразных, всегда очень метких изречений, которые пригодны для обоснования различных мнений. Использование Клаузевица представителями самых разнообразных течений облегчается отсутствием его собственной четкой позиции по отношению к политике определенных классов в определенную эпоху.
Попытаемся теперь вместе с читателем бегло перелистать восемь частей капитального труда.
Первая часть посвящена природе войны. Это — короткое введение, развивающее уже знакомые читателю основные мысли Клаузевица. Война является насилием, имеющим тройственную тенденцию, соответственно характеру и особенностям трех факторов, участвующих в войне и определяющих ведение войны как формы своеобразной общественной практики. Для народа война является прежде всего ареной проявления слепого природного инстинкта ненависти и вражды[24]. Для полководца война является игрой вероятностей и случая, обращающих ее в арену свободной духовной деятельности. Для правительства война представляется орудием политики и оказывается подчиненной чистому разуму. Теория не может пренебречь ни одной из этих трех сторон военной деятельности и должна притом помнить, что война — подлинный хамелеон, в каждом конкретном случае меняющий свою природу.
Если реальное бытие войны отличается от основной ее идеи воздействием политики, то для объяснения расхождения замысла с исполнением в боевых действиях Клаузевиц устанавливает понятие трения. Чем менее сработался сложный механизм армии, тем сильнее трение. Война представляет своего рода плотную среду, в которой достигнуть цели можно лишь при добавочном усилии. И чем войска менее втянуты в войну, тем сильнее трение, и тем большие недолеты в каждом отдельном случае дают предпринимаемые нами действия.
В изучении вопроса о трении Клаузевиц применяет метод идеалистической диалектики. То, что мы желаем совершить, — известный марш, маневр, сосредоточение сил, занятие позиции или атака на неприятеля — является своего рода идеалом в отношении того, что удастся действительно достичь в нашей практике, обреченной на несовершенство. Между замыслом и исполнением открывается та же пропасть, которую Клаузевиц уже отмечал между войной абсолютной и действительной.
Постоянный учет политики и трения позволяет Клаузевицу, несмотря на его идеалистический метод, оставаться на почве реальности.
Большое внимание уделяет Клаузевиц установлению требований, которым должен отвечать полководец. Последний, в представлении Клаузевица, направляет войну в точном соответствии с ее целями и наличными средствами. Он должен обладать смелостью и вместе с тем проницательностью. Но прежде всего ему необходимо полное самообладание: пусть в нем кипят могучие страсти, но они должны оставаться скрытыми и ничем не проявлять себя. Нужен жар, а не пламя, и преимущество — на стороне людей сильных, глубоких, но скрытых страстей, требующих раскачки, нелегко воспламеняющихся, но всегда сохраняющих духовное равновесие. Клаузевиц, сам того не замечая, в облике полководца отдал предпочтение тенденциям, свойственным его собственному характеру.
Вторая часть — теория войны — охватывает классификацию элементов теории: проблемы войны как науки и искусства, методизма, военно-исторической критики и использования исторических примеров. Каждый факт войны сцеплен с таким множеством явлений, какое можно встретить разве в искусстве. — Знание анатомии необходимо скульптору, но разве последнему удалось когда-нибудь создать красивую форму математическим путем, посредством абсцисс и ординат? Есть существенная разница между умением и знанием, между теорией искусства и наукой. Было бы конечно ошибочно провозглашать бесплодность научного изучения явлений войны: это значило бы впасть в крайность и признать полную невозможность разобраться в действительности; между тем, в военных явлениях можно установить детерминизм, связь между причинами и следствиями, и в раскрытии этой связи — главная задача теории и военно-исторической критики.
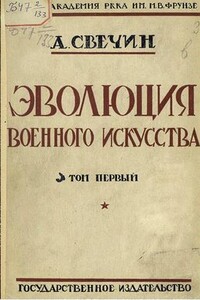
Труд А. Свечина представлен в двух томах. Первый из них охватывает период с древнейших времен до 1815 года, второй посвящен 1815–1920 годам. Настоящий труд представляет существенную переработку «Истории Военного Искусства». Требования изучения стратегии заставили дать очерк нескольких новых кампаний, подчеркивающих различные стратегические идеи. Особенно крупные изменения в этом отношении имеют место во втором томе труда, посвященном новейшей эволюции военного искусства. Настоящее исследование не ограничено рубежом войны 1870 года, а доведено до 1920 г.Работа рассматривает полководческое искусство классиков и средневековья, а также затрагивает вопросы истории военного искусства в России.
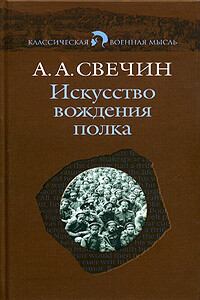
Аннотация издательства: Настоящая книга есть описание боевых действий 6-го Финляндского полка во время мировой войны в бытность автора командиром этого полка. Ценность книги заключается в тех жизненных подробностях, которыми насыщено все ее содержание. В дополнение к своей памяти автор использовал имеющиеся в наших архивах материалы и, не гоняясь за прикрашиванием действительности, старался изложить положительные и отрицательные стороны событий с возможной для участника беспристрастностью. Книга дает богатый материал для ясного представления того, как на самом деле происходят военные действия, как воплощаются в жизнь высокие оперативные соображения, в какой тяжелой среде приходится работать небольшим начальникам.
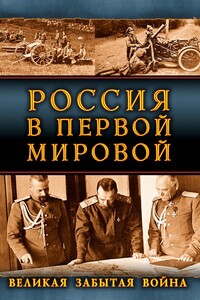
К 100-летию Первой Мировой войны. В Европе эту дату отмечают как одно из главных событий XX века. В России оно фактически предано забвению.Когда война началась, у нас ее величали «Второй Отечественной». После окончания — ославили как «несправедливую», «захватническую», «империалистическую бойню». Ее история была оболгана и проклята советской пропагандой, ее герои и подвиги вычеркнуты из народной памяти. Из всех событий грандиозного четырехлетнего противостояния в массовом сознании остались лишь гибель армии Самсонова в августе 1914-го и Брусиловский прорыв.Объективное изучение истории Первой Мировой, непредвзятое осмысление ее уроков и боевого опыта были возможны лишь в профессиональной среде, в закрытой печати, предназначенной для военных специалистов.
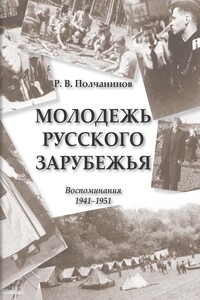
Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
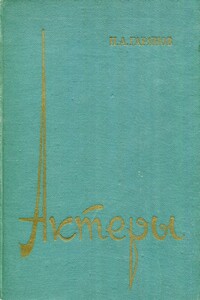
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.
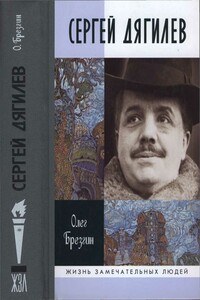
В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».
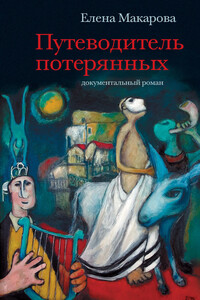
Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.
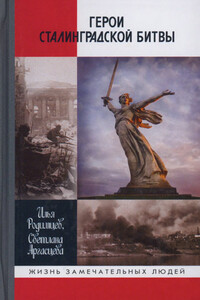
В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.