Кладовка - [20]
Образ комнаты в помещичьем доме, воспетый мирискусниками и их последователями, — это импровизация на тему о том, что умерло задолго до моего рождения. Хорошо, если одна-единственная комната хранила разрозненные воспоминания о прошлом. Красота была не ценимая, не нашедшая своего места в идейном веке, позабытая, сохранилась чисто случайно в виде отдельных вещей. Вещей чисто утилитарных, которых не успели перебить, исковеркать, отправить на свалку, на чердак. То, что пришло, вкрапилось в старый быт помещичьего гнезда, вытеснило его, обесценило, обезобразило его своим соседством, было столь безликое, бедняцкое, бездушное, что говорить о нем невозможно.
И все же подчас отдельные уцелевшие вещи жили как вкрапления в этом бессмысленном быту, причем жили с какой-то удвоенной силой. Они-то и были здесь по праву, как бы ровнями, братьями-близнецами этих усадеб.
Старый, поломанный ампирный подсвечник с египтянкой, держащей на голове капитель с традиционным лотосом, — импровизация эпохи, восхищенной бессмысленным походом толстопузого коротышки. Свеча в подсвечнике освещает шестиугольный стол, покрытый старинной, гобеленной, еще запсельской скатертью. Огромная эта комната еле видна, темно, все контуры стерты. За окном вечер и мелкий дождь. Мама пишет по-английски письмо своей бывшей гувернантке. Передо мной — Пушкин, остатки запсельской библиотеки. Это «Дубровский», я не столько читаю, сколько проглядываю, и мне почему-то грустно. Чувством, а отнюдь не сознанием, мне просвечивает сквозь эту повесть маленький толстый капрал, и, пожалуй, не он сам, а воздух, окружающий его имя, герой, еще не успевший тогда выветриться из моей крови. Герой, ставший символом для наших романтических предков, пропитавший отблеском своей немыслимой славы, и сомнительной славы, даже российское помещичье захолустье. Эта немудрящая сценка и я, склоненный над старым, потрепанным Пушкиным, — это еще «оттуда». При неярком свете свечи это еще одухотворенный быт.
Совсем другое я видел в роскошных апартаментах крупных капиталистов, с детьми которых дружил в городе. Там быт должен был лишь соответствовать количеству миллионов их владельцев. Отношение к предметам материальной культуры определялось лишь их стоимостью. Внутренней взаимосвязи между предметами и их владельцами в принципе быть не могло. Даже подлинность любви к своим коллекциям прославленных московских меценатов кажется мне сомнительной, подточенной снобизмом.
Большую часть моей жизни мне пришлось ощущать быт отнюдь не как форму культуры, а всего лишь как синоним существования. В условиях коммунальных переуплотненных квартир быту как форме культуры просто не было места. Это в корне меняло положение предметного мира.
Перманентное безденежье людей, находившихся в поле моего зрения, принуждало их смотреть на вещи как на некий эквивалент, способный заткнуть очередной продажей финансовую дыру, а подчас попросту чтобы не сдохнуть с голоду. Отдельные предметы, несущие на себе печать искусства, могли, конечно, сохраниться где-нибудь в пыльных углах, затиснутые туда шкафами и необходимостью. Наличие их в подобных условиях было для этих вещей оскорбительно, а далее уже гибельно. Гибель культуры, потеря соединительных звеньев отдавала предметы материальной культуры на произвол одичалых потомков.
Можно утверждать, что предметный мир, созданный за это шестидесятилетие, ничтожен во всех смыслах этого понятия недовольно точно отражает духовный вакуум эпохи, в которой мне довелось жить.
Конечно, в условиях небывалых по глубине и размаху катастроф предметная культура и не могла иметь места, не до нее тут было. Такое объяснение, конечно, возможно, но явно недостаточно. Здесь напрашивается иная мысль: ведь есть некая неуклонность судьбы, ей нечего противопоставить. Судьба величественна, спор с ней немыслим. Попытки понять ее глупы, по существу, так как нам непонятна ее цель.
Идеи, мысли, организации, действия, войны, революции, как бы грандиозны они сами по себе ни были, — все это мелочь, это все лишь рядовые солдаты, которых судьба использует в своих непостижимых устремлениях. Любой самый «великий идеолог», чего бы он ни желал, все равно в результате выполнит совсем не то, что хотел, а то, что надо Судьбе.
Подумать только, что этот «идейный» девятнадцатый век породил слепоту. Что этот же «идейный», ужасно болтливый век породил глухоту. Что этот же век, век-«мыслитель», породил утлое, убогое, калечное мышление.
В результате его вдохновенной деятельности мы живем в слепом, глухом и духовно одичалом мире.
Что делать, как существовать бедной и хрупкой вещи предметного мира? Она создана для людей, а они слепы, рассказать им о ней, но они глухи.
Мой отец любил самые различные предметы, все, начиная с рабочих инструментов. Словом, все, что таило в себе мудрую целесообразность, красоту в любом понимании этого слова. Многое из того, что его окружало, он буквально фетишизировал, в особенности инструменты. Он не только любил мир вещей, но и умел с ним жить, вещи сами собой как бы врисовывались в его жизнь, соучаствовали в ней, соавторствовали в его работе. Он был отродясь с ними на «ты». Ему, как и всем другим, случалось испортить ту или иную вещь, сломать ее, потерять и так далее, но это никак не влияло на их отношения, все было по формуле «чего не бывает между своими». Вещи, которые он употреблял, делались чем-то лучше от этого. Притирались к руке.
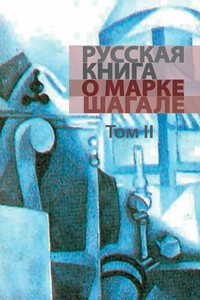
Это издание подводит итог многолетних разысканий о Марке Шагале с целью собрать весь известный материал (печатный, архивный, иллюстративный), относящийся к российским годам жизни художника и его связям с Россией. Книга не только обобщает большой объем предшествующих исследований и публикаций, но и вводит в научный оборот значительный корпус новых документов, позволяющих прояснить важные факты и обстоятельства шагаловской биографии. Таковы, к примеру, сведения о родословии и семье художника, свод документов о его деятельности на посту комиссара по делам искусств в революционном Витебске, дипломатическая переписка по поводу его визита в Москву и Ленинград в 1973 году, и в особой мере его обширная переписка с русскоязычными корреспондентами.
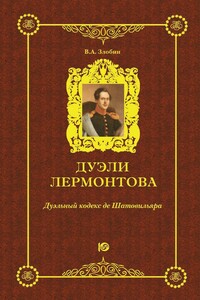
Настоящие материалы подготовлены в связи с 200-летней годовщиной рождения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, которая празднуется в 2014 году. Условно книгу можно разделить на две части: первая часть содержит описание дуэлей Лермонтова, а вторая – краткие пояснения к впервые издаваемому на русском языке Дуэльному кодексу де Шатовильяра.
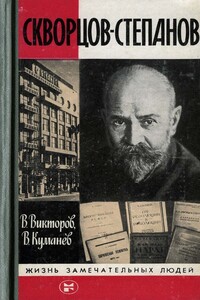
Книга рассказывает о жизненном пути И. И. Скворцова-Степанова — одного из видных деятелей партии, друга и соратника В. И. Ленина, члена ЦК партии, ответственного редактора газеты «Известия». И. И. Скворцов-Степанов был блестящим публицистом и видным ученым-марксистом, автором известных исторических, экономических и философских исследований, переводчиком многих произведений К. Маркса и Ф. Энгельса на русский язык (в том числе «Капитала»).
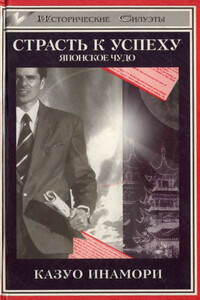
Один из самых преуспевающих предпринимателей Японии — Казуо Инамори делится в книге своими философскими воззрениями, следуя которым он живет и работает уже более трех десятилетий. Эта замечательная книга вселяет веру в бесконечные возможности человека. Она наполнена мудростью, помогающей преодолевать невзгоды и превращать мечты в реальность. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.
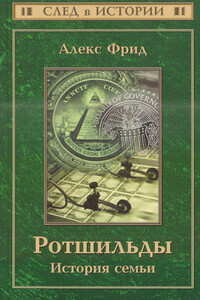
Имя банкирского дома Ротшильдов сегодня известно каждому. О Ротшильдах слагались легенды и ходили самые невероятные слухи, их изображали на карикатурах в виде пауков, опутавших земной шар. Люди, объединенные этой фамилией, до сих пор олицетворяют жизненный успех. В чем же секрет этого успеха? О становлении банкирского дома Ротшильдов и их продвижении к власти и могуществу рассказывает израильский историк, журналист Атекс Фрид, автор многочисленных научно-популярных статей.