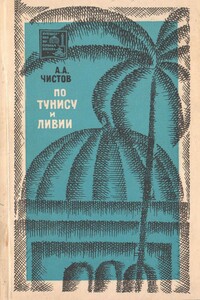Киви - [32]
Говоря с нами о развитии новозеландской литературы, один из преподавателей Веллингтонского университета привел слова интересной маорийской песни.
Так некогда пели маори о своем прибытии в Аотеароа, — сказал он. — Наши писатели прониклись подобными чувствами не сразу, а только в начале XX века. Можно считать, что именно с этого времени у нас появилась своя литература.
Современные писатели страны с любовью пишут о Новой Зеландии. В их книгах выражаются чувства новозеландца, осознавшего себя новозеландцем.
Поэта Чарльза Брэша волнует, что его страна еще «не нашла себя».
пишет он в своем стихотворении «Молчаливая земля».
О судьбах родины задумывается и поэт Аллен Керноу. Глядя на чучело моа (стихотворение «Думы новозеландского поэта»), он размышляет о том, что эта птица исчезла с Новозеландских островов, потому что она не сумела приспособиться к жизни. «И я, как и моа, я, коренной новозеландец, тоже чувствую себя подавленным и униженным», — пишет он. Но поэт надеется, что новое поколение новозеландцев, теперешние дети, сумеют «встать во весь рост».
Передовые писатели страны группируются вокруг прогрессивного журнала «Фернфайр», который бесплатно распространяется среди рабочих.
Нам довелось встретиться с одним из этих писателей — Эдди Исби, который пишет под псевдонимом Нгава.
Исби больше говорил о забастовках, о борьбе рабочих за свои права, чем о литературе. Это было не случайно. Он — видный профсоюзный деятель, президент Федерации портовых рабочих Северного острова и президент Союза портовых рабочих Окленда.
Но разговор о литературе у нас с ним все же состоялся. Исби поделился с нами теми трудностями, которые стоят перед прогрессивными новозеландскими писателями.
— Буржуазные издатели, — сказал он, — печатают нас очень неохотно, а такие журналы, Как «Фернфайр», не платят гонорара. Чтобы прокормить себя и семью, новозеландский писатель вынужден иметь другую работу. У нас на литературный заработок не проживешь.
Однако, несмотря на это, прогрессивная новозеландская литература развивается и все громче заявляет о себе.
ОТ ЛЭМБТОН КИ на фуникулере можно подняться на вершину горы, на склоне которой расположен ботанический сад, а потом спуститься обратно на ту же улицу тропинками и аллеями сада.
В саду много представителей растительного мира Новозеландских островов. Тут и древовидные папоротники, и царственные каури, и пальмы никау, похожие набольшие желто-зеленые опахала, и так хорошо прижившиеся на новой родине австралийские эвкалипты… Десятки и десятки деревьев, кустарников, цветов.
Особую прелесть веллингтонскому саду придает любимое дерево новозеландцев — похутукава (Metrosideros ем celsa), все усыпанное пушистыми, похожими на очень большие шары одуванчика алыми цветами. Похутукава цветет в течение нескольких недель, и в это время побережье Северного острова, берега озер и рек пламенеют от ее цветов. Когда же похутукава отцветает, ее падающие на землю лепестки, если верить новозеландским поэтам, кажутся бесчисленными каплями крови.
В маорийской легенде говорится о том, что бог Тане, вскормив похутукаву соками земли, поселил на ее ветвях птиц. Он одарил это дерево яркими цветами и сделал так, что по шуму его ветвей люди, которые понимают язык природы, могут узнать о том, какая будет погода. Если голос ветвей похутукавы едва слышен, можно ждать ясного неба и солнца. Но когда похутукава начинает стонать и плакать, это значит, что надвигается буря.
«Поющее дерево» зовут похутукаву маори. Пакехаже называют ее «рождественское дерево». Похутукава начинает цвести в середине новозеландского лета, под самое рождество. Цветы похутукавы украшают рождественски» и новогодние открытки, которыми обмениваются новозеландцы.
Похутукава для новозеландца то же самое, что для русского береза: с этим деревом связан для него образ родины.
Кстати, в ботаническом саду Веллингтона есть и наши северные березы. Небольшая их рощица живо напоминает милое сердцу Подмосковье.
Нельзя быть в Веллингтоне и не подняться Виктория. Оттуда виден весь город. Особенно здесь на рассвете, когда, по выражению маори, «являются — тени утра».
Извилистая дорога ведет все выше и выше, пока наконец вы не оказываетесь на огороженной барьером площадке почта на самой вершине горы. Перед вамп развертывается панорама Веллингтона.
Город ступенями спускается к заливу. Четко видны выросшие в различных его частях восьми-, десятиэтажные здания. Они выделяются на фоне в целом невысокого юрода. До самого недавнего времени здесь предпочитали строить дома не выше пяти этажей: в районе Веллингтона часты землетрясения. Но из-за недостатка свободной площади в городском черте город начал расти вверх. Новые здания строятся на особо прочных фундаментах.
На высоком откосе над заливом виднеется большое здание католического монастыря. Его серая островерхая крыша, темный камень стен, узкие, удлиненные окна как-то не вяжутся с общей картиной города. Здание кажется целиком перенесенным из средневековой Франции или Италии. Монастырь действующий. И денно и нощно возносятся к небу латинские песнопения. Католицизм сумел пустить корни и здесь, на земле, само существование которой служит опровержением его былых догматов. В самом деле, так ли уж давно католическая церковь посылала на костер тех, кто утверждал, что земля — шар?
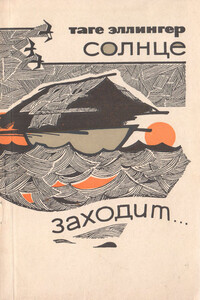
Предлагаемая читателю книга датского ученого Таге Эллингера «Солнце заходит…» не является научным исследованием. Это скорее записки о том, что автор увидел, услышал и прочувствовал во время десятилетнего пребывания на Филиппинах, где он «оставил свое сердце».
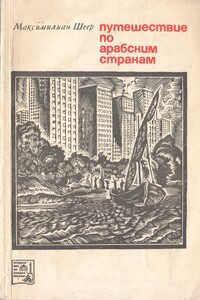
Книга Максимилиана Шеера, судя по фактам и событиям в ней описанным, посвящена его впечатлениям от поездки на берега Нила в 1956 году. Для меня, прожившего в ОАР шесть лет, многое, о чем пишет автор, знакомо по непосредственным наблюдениям, и я могу свидетельствовать, что у автора острый глаз, что он сумел живо и интересно рассказать о Египте (И. П. Беляев).
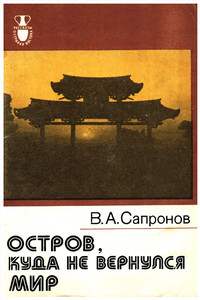
Книга представляет собой серию очерков, в которых рассказывается о национальных особенностях рюкюсцев — жителей островов Рюкю, их традициях, обычаях и верованиях. Читатель узнает об истории и хозяйстве этой японской префектуры, о ее древней самобытной культуре, а также о политической жизни островов, об упорной борьбе населения за ликвидацию американских баз и полигонов, за мир и демократию.
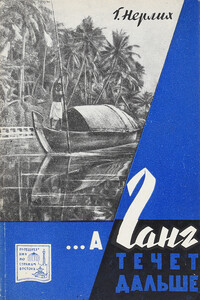
Автор этой книги — немецкий журналист, фото- и кинорепортер. В 1956 г. по заданию студии Нерлих совершил длительное путешествие по Индии. Результатом этой поездки были две книги: великолепный фотоальбом «20 тысяч километров по Индии» (1957) и путевые записки, названные автором «…а Ганг течет дальше» и опубликованные в 1959 г. берлинским издательством «Нейес лебен».
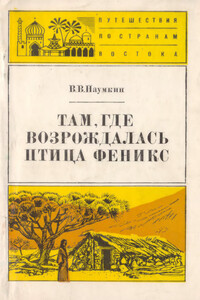
Автор излагает свои впечатления о поездке на о-в Сокотра, с которым в древности и средневековье было связано много легенд, касается истории острова, проблем его развития.
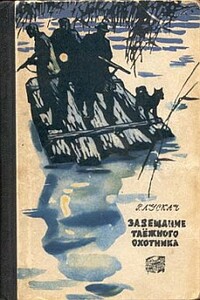
В этой увлекательной повести события развертываются на звериных тропах, в таежных селениях, в далеких стойбищах. Романтикой подвига дышат страницы книги, герои которой живут поисками природных кладов сибирской тайги.Автор книги — чешский коммунист, проживший в Советском Союзе около двадцати лет и побывавший во многих его районах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.
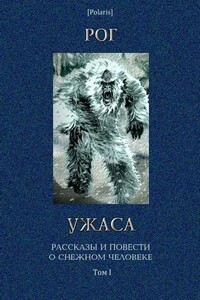
Рог ужаса: Рассказы и повести о снежном человеке. Том I. Сост. и комм. М. Фоменко. Изд. 2-е, испр. и доп. — Б.м.: Salamandra P.V.V., 2014. - 352 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. XXXVI).Йети, голуб-яван, алмасты — нерешенная загадка снежного человека продолжает будоражить умы…В антологии собраны фантастические произведения о встречах со снежным человеком на пиках Гималаев, в горах Средней Азии и в ледовых просторах Антарктики. Читатель найдет здесь и один из первых рассказов об «отвратительном снежном человеке», и классические рассказы и повести советских фантастов, и сравнительно недавние новеллы и рассказы.Во втором, исправленном и дополненном издании, антология обогатилась пятью рассказами и повестью.
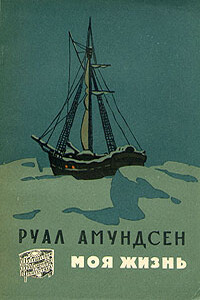
В своей книге неутомимый норвежский исследователь арктических просторов и покоритель Южного полюса Руал Амундсен подробно рассказывает о том, как он стал полярным исследователем. Перед глазами читателя проходят картины его детства, первые походы, дается увлекательное описание всех его замечательных путешествий, в которых жизнь Амундсена неоднократно подвергалась смертельной опасности.Книга интересна и полезна тем, что она вскрывает корни успехов знаменитого полярника, показывает, как продуманно готовился Амундсен к каждому своему путешествию, учитывая и природные особенности намеченной области, и опыт других ученых, и технические возможности своего времени.
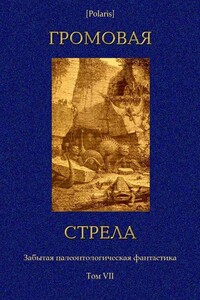
Палеонтологическая фантастика — это затерянные миры, населенные динозаврами и далекими предками современного человека. Это — захватывающие путешествия сквозь бездны времени и встречи с допотопными чудовищами, чудом дожившими до наших времен. Это — повествования о первобытных людях и жизни созданий, миллионы лет назад превратившихся в ископаемые…Антология «Громовая стрела» продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций забытой палеонтологической фантастики. В книгу вошли произведения российских и советских авторов, впервые изданные в 1910-1940-х гг.