Киргизы - [5]
Главное содержание надписей — события, связанные с освобождением, после 680-го г., восточных турок от китайского ига и восстановлением восточно-турецкого каганства. Одному из этих каганов, которого китайцы называют Мочжо (он правил с 692 г. или 693 г. и умер в 716 г.), удалось на короткое время распространить свою власть далеко на запад; вообще как ему, так и его брату и предшественнику, восстановителю каганства (китайцы называют его Гу-ду-лу), приходилось воевать не только с китайцами, но и с турецкими каганами и предводителями, иногда заключавшими против новых каганов союз, как между собой, так и с Китаем. Среди врагов Гу-ду-лу, которого надписи называют Ильтерес (по чтению Томсена — Эльтериш) — каганом, упоминаются и киргизы; но война с киргизами и вообще с западными народами тогда еще не имела значения. При Ильтересе или при Мочжо (последнему одна из надписей дает титул Канган-каган) было достигнуто соглашение, по которому киргизский предводитель Барс-бег был признан каганом, и за него была выдана дочь Ильтереса. Надпись, составленная от имени главного советника Ильтереса и его преемников, Тоньюкука, говорит только о борьбе Ильтерес-кагана с коалицией севера, востока и юга (китайцев); главным врагом считался государь севера, стоявший во главе другой части огузов Баз-каган, тогда как в царствование Мочжо больше значения придавалось борьбе с киргизами и Барс-бегом. По турецкому обычаю, у могил ханов и богатырей ставились изображения убитых ими врагов; у могилы Ильтерес-кагана, на первом месте было поставлено изображение Баз-когана, у могилы Мочжо или Канган-кагана — изображение киргизского кагана.
Надпись Тоньюкука говорит о составившейся против восточных турок коалиции трех «каганов»: китайского, западно-турецкого (во главе западных турок стоял в то время род Тюргеш) и киргизского: таким образом, на этот раз в коалиции, кроме китайцев, принимали участие только народы запада. Тоньюкук решил произвести нападение на киргизов. Повидимому, эта война произошла зимой 710-711 гг.: надпись только в кратких словах говорит о битве и победе над киргизами; более подробно говорится о трудностях перехода через горы Кёгмен, т. е. через Саянский хребет. Через эти горы был только один путь, в то время закрытый снегом; от одного человека из народа азов (о нем см ниже) Тоньюкук узнал, что есть еще узкая дорога, где одна лошадь должна была идти за другой, вдоль реки Аны. Тоньюкук решил идти этим путем: войско собралось за местностью Ак-Термель, откуда пешком проложило себе путь через снег. Люди шли сначала верхами, потом вверх по реке пешком, таща лошадей за собой и держась за деревья (или, что более вероятно, за деревянные палки). Передовой отряд протаптывал дорогу в снегу, за ним шло войско; так был пройден перевал Ыбар(?): после этого еще десять суток с таким же трудом и по такому же глубокому снегу совершался спуск; проводник был признан обманщиком и был убит. Дойдя до реки Аны, войско село на коней и быстро отправилось в страну киргиз; ему удалось застигнуть врага врасплох. По другой надписи битва произошла в горах Сонга (или Сунга): турки убили кагана киргиз и завоевали их государство. Как и другие завоевания Мочжо. это завоевание скоро было утрачено; в 731 г. на поминки по царевиче Киль-тегине, сыне Ильтерес-кагана и брате царствовавшего в то время Бильге-кагана (у китайцев Могилянь), явился, среди прочих, посол киргизского кагана Тардуш-Ынанчу-чур (чур часто встречающийся турецкий титул).
Чтобы разобраться в рассказе о походе турецкого войска на, киргиз, необходимо, конечно, основательное знакомство с путями через Саянский хребет. Незадолго до мировой войны было приступлено к проведению колесной дороги от деревни Означенной, где оканчивалось судоходство вверх по Енисею, на селение Усинское; повидимому, эта дорога должна была примкнуть к тому пути, которым прошел к 1870 г. Г.Н. Потанин: через проход Хатын-арка, считавшийся государственной границей и пройденный 18 сентября при сильном буране, в долину речки Ижим и оттуда в долину Уса, правого притока Енисея[5]). Деревня Означенная находится ниже устья Уса; между ней и устьем Уса — самое опасное место для судоходства. Потанин описывает три дороги от усинских деревень к Минусинску, «пролегающие по крутым горам Саянского хребта», «где движение производится исключительно на лошадях с легкими вьюками и то только в течение трех летних месяцев». Есть зимний путь по рекам Усу и Енисею; возможно, что турки воспользовались им. «Аны» в таком случае есть Енисей; других примеров употребления такого названия мы не знаем. Известно, что слово «Енисей», несмотря на попытки турецких и татарских публицистов объяснить его из турецкого языка (Ени чай — «новый ручей»), есть тунгусское Ионеси («большая вода») и не употреблялось ни одним турецким народом.
Примыкали ли владения киргиз на юго западе непосредственно к владениям их союзников того времени, тюргешей, стоявших во главе западных турок, из надписей не видно; прежде чем идти на тюргешей, Тоньюкук со своим войском вновь перешел из страны киргиз на южную сторону Саянского хребта. Вместе с киргизами несколько раз упоминается народ Аз: в одном месте азы называются вместе с тюргешами, следовательно, жили, вероятно, от киргиз к юго западу, между Саянским хребтом и Алтаем. Вместе с киргизами упоминается еще народ Ч‘ик: турки совершили поход на этот народ еще в 709 г., перед походом на киргиз, причем говорится о переправе через реку Кем, но не о переходе через Саянский хребет: вероятно, чики жили к югу от этого хребта, на речках, составляющих истоки Енисея. К востоку от киргизов и к северу от уйгуров, к югу от небольшого озера (Косогола) жил, по китайским известиям, народ Ду-бо: так (Туба) теперь называют самоедок: теперь самоедские племена так далеко на юг не заходят. Китайцы и в то время причисляют Ду-бо и союзные с ними роды Милигэ и Эчжы (связь этих родов с Ду-бо была настолько тесной, что говорится о делении Ду-бо на три рода) к туркам. Возможно, что эти самоедские племена уже тогда были отуречены; по обычаю ходить на лыжах их называли «турками с деревянными лошадьми» (по-китайски «мума тугюй»). На берегах озера Гянь-хай (по мнению Иакинфа — Байкал) с киргизами были смежны народы Да-хань и Гюй, при чем первый народ жил к северу от второго. Киргизское государство простиралось на восток до области народа Гу-ли-чань, в орхонских надписях «Курыкан». По переводу и толкованию Иакинфа, курыканы жили к северу от Байкала до Ледовитого океана, по переводу Шаванна — к северу от пустыни и к югу от Байкала. Во всяком случае владения киргиз занимали обширное пространство до Байкала, и потому киргизы могли соперничать с турками огузами даже в эпоху их могущества. Факт выдачи дочери Ильтерес-кагана за кагана киргиз не был, повидимому, исключительным: по крайней мере, китайцы говорят, что турецкий царствующий дом вообще выдавал своих дочерей за киргизских старейшин.
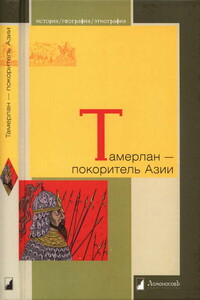
Тамерлан, Тимур, Темир Аксак… У этого человека много имен, но еще больше образов. Для одних — он покровитель ученых и мудрый правитель, для других — свирепый захватчик и хладнокровный убийца. Тамерлан завоевал многие страны, основал громадную империю и воздвиг на руинах прошлых веков жемчужину Азии — Самарканд. Но народы, по чьей земле шли его армии, видели в нем олицетворение смерти, империя его создавалась огнем и мечом, а строил Тамерлан не только величественные здания, но и башни из десятков тысяч отрубленных голов.
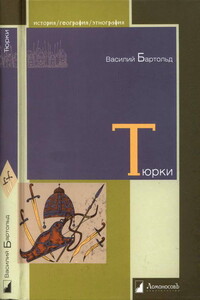
Академик Василий Владимирович Бартольд (1869- 1930) как-то заметил, что изучение истории тюрок по первоисточникам требует таких навыков, которые редко соединяются в одном лице, ибо если взять хотя бы языки, то надо знать в совершенстве, кроме тюркских, как минимум арабский, персидский и китайский, а также обладать массой специальных знаний. Сам он — тюрколог, арабист, исламовед, историк, архивист, филолог, полиглот — был именно таким человеком, являя собой редкий тип ученого-энциклопедиста. В.В. Бартольд опирался в своих работах на множество источников и, как никто другой, — благодаря своим глубоким знаниям — умел их сопоставлять и анализировать.
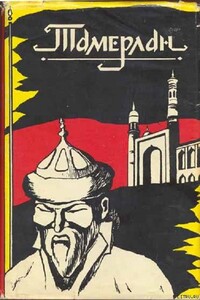
В книге подобраны источники и исторические исследования, рассказывающие о жизни и деятельности полководца и государственного деятеля XIV–XV веков Тамерлана (Тимура).

Боец легендарного 181-го отдельного разведотряда Северного флота Макар Бабиков в годы Великой Отечественной участвовал в самых рискованных рейдах и диверсионных операциях в тылу противника — разгроме немецких гарнизонов на берегах Баренцева моря, захвате артиллерийской батареи на мысе Крестовый и др., — а Золотой Звезды Героя был удостоен за отчаянный десант в южнокорейский город Сейсин в августе 1945 года, когда, высадившись с торпедных катеров, его взвод с боем захватил порт и стратегический мост и, несмотря на непрерывные контратаки японцев, почти сутки удерживал плацдарм до подхода главных сил.Эта книга вошла в золотой фонд мемуаров о Второй мировой войне.

Впервые — Новый мир, 1928, № 9, с. 207–213. П. Е. Щеголев, всегда интересовавшийся творчеством и личностью великого русского писателя, посвятил ему, кроме данных воспоминаний, еще две статьи: "Популярность Толстого" (Вестник и Библиотека самообразования, 1904, № 4) и "Блондинка" в Ясной Поляне в 1910 году" (Былое, 1917, № 3 (25)), перепечатанную затем в его книге "Охранники и авантюристы" (М., 1930).Сборник избранных работ П. Е. Щеголева характеризует его исторические и литературные взгляды, общественную позицию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В этой книге собраны ценнейшие научные данные об истории, политике, религии, науках, искусстве, сельском хозяйстве и ремеслах народов, живших на территории Среднего Востока (обозначение стран Ближнего Востока вместе с Ираном и Афганистаном). Вы получите полное и подробное представление о зарождении, развитии, расцвете и гибели могущественных цивилизаций шумеров, аккадян, амореев, халдеев, персов, македонян, парфян, арабов, тюрок, иудеев.

Книга раскрывает внутреннее содержание, характер действий вооруженных сил Японии на их пути от победы в Перл-Харборе до подписания акта о безоговорочной капитуляции на американском линкоре «Миссури» в Токийском заливе. Она представляет интерес для всех, кто интересуется историей войны на Тихом океане в 1941–1945 годах.

Капитальный труд посвящен анализу и обобщению деятельности Тыла Вооруженных Сил по всестороннему обеспечению боевых действий Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны.Авторы формулируют уроки и выводы, которые наглядно показывают, что богатейший опыт организации и работы всех звеньев Тыла, накопленный в минувшей войне, не потерял свое значение в наше время.Книга рассчитана на офицеров и генералов Советской Армии и Военно-Морского Флота.При написании труда использованы материалы штаба Тыла Вооруженных Сил СССР, центральных управлений МО СССР, Института военной истории МО СССР, Военной академии тыла и транспорта, новые архивные документы, а также воспоминания участников Великой Отечественной войны.Книга содержит таблицы.