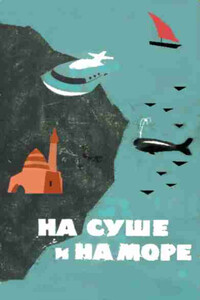Киргегард и экзистенциальная философия - [5]
III
И тут он до такой степени приближается к Достоевскому, что можно, не боясь упрека в преувеличении, назвать Достоевского двойником Киргегарда. Не только идеи, но и метод разыскания истины у них совершенно одинаковы и в равной мере не похожи на то, что составляет содержание умозрительной философии. От Гегеля Киргегард ушел к частному мыслителю – Иову. То же сделал и Достоевский. Все эпизодические вставки в его больших романах – «Исповедь Ипполита» в «Идиоте», размышления Ивана и Мити в «Братьях Карамазовых», Кириллова – в «Бесах», его «Записки из подполья» и его небольшие рассказы, опубликованные им в последние годы жизни в «Дневнике писателя» («Сон смешного человека», «Кроткая»), – все они, как у Киргегарда, являются вариациями на темы «Книги Иова». «Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже? – пишет он в „Кроткой“. – Я отделяюсь. Косность! О природа! Люди на земле одни – вот беда». Достоевский, как и Киргегард, «выпал из общего» или, как он сам выражается, из «всемства». И вдруг почувствовал, что к всемству нельзя и не нужно возвращаться, что всемство – т. е. то, что все, всегда и везде считают за истину, есть обман, есть страшное наваждение, что от всемства, к которому нас призывает наш разум, пришли на землю все ужасы бытия. В «Сне смешного человека» он, с нестерпимой для наших глаз отчетливостью, открывает смысл того «будете знающими», которым библейский змей соблазнил нашего праотца и продолжает всех нас соблазнять и доныне. Разум наш, как говорит Кант, жадно стремится ко всеобщности и необходимости, – Достоевский, вдохновляемый Писанием, напрягает все свои силы, чтобы вырваться из власти знания. Как и Киргегард, он отчаянно борется с умозрительной истиной и с человеческой диалектикой, сводящей «откровение» к познанию. Когда Гегель говорит о «любви» – а Гегель не меньше говорит о любви, чем о единстве божественной и человеческой природы, – Достоевский видит в этом предательство: предается божественное слово. «Я утверждаю, – пишет он в „Дневнике писателя“, т. е. уже в последние годы своей жизни, – что сознание своего совершенного бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь пользу страждущему человечеству, в то же время при полном убеждении нашем в этом страдании человечества, может даже обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему». Это то же, что и у Белинского: требуется отчет о каждой жертве случайности и истории – т. е. о том, что, в принципе, для умозрительной философии не заслуживает, как сотворенное и конечное, никакого внимания и чему никто в мире, как это твердо знает умозрительная философия, помочь не может. Еще с большей страстностью, безудержем и с единственной в своем роде смелостью мысль о тщете умозрительной философии выражена Достоевским в следующем отрывке его «Записок из подполья». Люди, пишет он, «пред невозможностью тотчас смиряются. Невозможность, значит, каменная стена! Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что ты от обезьяны произошел, так уж и нечего морщиться, принимай, как есть, потому дважды два – математика. Попробуйте возразить! Помилуйте, закричат вам, возразить нельзя: это – дважды два четыре. Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ли вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена и т. д. и т. д.». Вы видите, что Достоевский – не хуже, чем Кант и Гегель – сознает смысл и значение тех всеобщих и необходимых суждений, той принудительной, принуждающей истины, к которой зовет человека его разум. Но, в противоположность Канту и Гегелю, он не только не успокаивается на этих «дважды два четыре» и «каменных стенах», но, наоборот, открываемые разумом самоочевидности будят в нем, как и в Киргегарде, величайшую тревогу. Что отдало человека во власть Необходимости? Как случилось, что судьба живых людей оказалась в зависимости от каменных стен и дважды два четыре, которым до людей нет никакого дела, которым вообще ни до кого и ни до чего никакого дела нет? Критика чистого разума такого вопроса не ставит, критика чистого разума такого вопроса и не услышала бы – если бы с ним к ней обратились. Достоевский же, непосредственно за приведенными выше словами, пишет: «Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два – четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить,
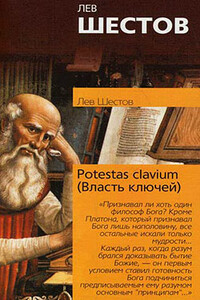
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.«Признавал ли хоть один философ Бога? Кроме Платона, который признавал Бога лишь наполовину, все остальные искали только мудрости… Каждый раз, когда разум брался доказывать бытие Божие, – он первым условием ставил готовность Бога подчиниться предписываемым ему разумом основным “принципам”…».

Автор выражает глубокую признательность Еве Иоффе за помощь в работе над книгой и перепечатку рукописи; внучке Шестова Светлане Машке; Владимиру Баранову, Михаилу Лазареву, Александру Лурье и Александру Севу — за поддержку автора при создании книги; а также г-же Бланш Бронштейн-Винавер за перевод рукописи на французский язык и г-ну Мишелю Карассу за подготовку французского издания этой книги в издательстве «Плазма»,Февраль 1983 Париж.
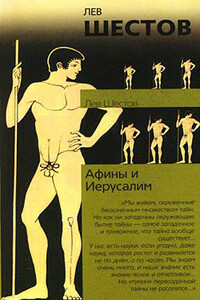
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной; концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.

Лев Шестов (настоящие имя и фамилия – Лев Исаакович Шварцман) (1866–1938) – русский философ-экзистенциалист и литератор.Статья «Умозрение и Апокалипсис» посвящена религиозной философии Владимира Соловьева.
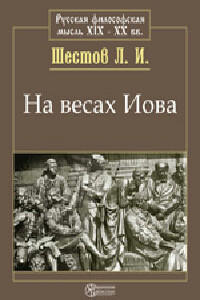
Первая публикация — Изд-во "Современные записки", Париж, 1929. Печатается по изданию: YMCA-PRESS, Париж, 1975."Преодоление самоочевидностей" было опубликовано в журнале "Современные записки" (№ 8, 1921 г., № 9, 1922 г.). "Дерзновения и покорности" было опубликовано в журнале "Современные записки" (№ 13, 1922 г., № 15, 1923 г.). "Сыновья и пасынки времени" было опубликовано в журнале "Современные записки" (№ 25, 1925 г.). "Гефсиманская ночь" было опубликовано в журнале "Современные записки" (№ 19, 1924 г.)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
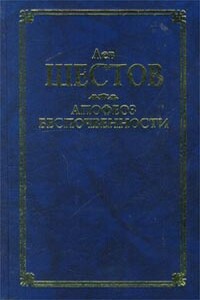
Лев Шестов – философ не в традиционном понимании этого слова, а в том же смысле, в каком философичны Шекспир, Достоевский и Гете. Почти все его произведения – это блестящие, глубокие неподражаемо оригинальные литературные экскурсы в философию. Всю свою жизнь Шестов посвятил не обоснованию своей собственной системы, не созданию своей собственной концепции, но делу, возможно, столь же трудному – отстраненному и непредвзятому изучению чужих философских построений, борьбе с рационалистическими идеями «разумного понимания» – и, наконец, поистине гениальному осознанию задачи философии как науки «поучить нас жить в неизвестности»…

Наиболее интересной и объемной работой французского философа Жака Дерриды (р. 15.7.1930), является предлагаемое вашему вниманию произведение «О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только».
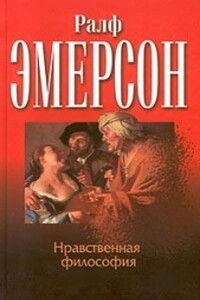
Читателю представляется возможность ознакомиться с уникальным изданием — книгой Р. У. Эмерсона (1803–1882), представителя и главы американского философско-литературного движения трансцендентализма, сподвижника Г. Торо.Основные идеи, которые развивал Эмерсон и которые нашли отражение в первой части, — это идеи социального равенства «равных перед Богом» людей, самоусовершенствование, близость к природе, очищение человека от «вульгарно-материальных» интересов. Во второй части дана блестящая характеристика «духовных отцов» человечества, представляющая интерес и для современного читателя.