Кино Японии - [4]
Другой актер, Тосиро Мифунэ, завоевавший популярность в фильмах Куросавы 1950–х и 1960–х годов, — еще один классический пример татэяку. Он дебютировал в 1947 году и с тех пор снялся в почти ста двадцати фильмах и, насколько я помню, сыграл в них лишь три или четыре любовные сцены, которые оказались чуждыми его амплуа и могут служить прекрасным доказательством того, что исключения подтверждают правила.
Хотя ни Хаякава, ни Мифунэ не были связаны с Кабуки, они неосознанно переняли мимику и поведение татэяку, представ в образах классических самураев. Современным японцам их игра не казалась ни архаичной, ни излишне театрализованной, однако для западного зрителя эти актеры стали блестящими представителями традиции самураев.
Несмотря на привлекательность татэяку, на заре кинематографа зрительницам, как и посетительницам театра в феодальной Японии, была нужна романтика. Этой потребности отвечала разновидность драмы, получившая развитие в фильмах, действие которых происходило после Реставрации Мэйдзи 1868 года и вращалось вокруг нимаймэ. Подобно тому как историческая драма родилась из Кабуки, современная — возникла на основе Симпа[3]. Симпа — новая форма драмы с современным сюжетом — появилась около 1890 года как потенциальный преемник Кабуки, традиционные формы которого уже не могли отразить нравы Японии, переживавшей процесс «модернизации». Тем не менее в ранних произведениях Симпа действовали татэяку, нимаймэ и оннагата (исполнители женских ролей) — персонажи, унаследованные от Кабуки. С 1900 до середины 1920–х годов Симпа была самым распространенным драматическим жанром. Однако в 1920–е годы ее сменила новая школа сингэки («современной драмы»). Тексты ее пьес и техника постановки были непосредственно импортированы с Запада, главным принципом сингэки был реализм; с 1930–х годов она стала основным течением японской драматургии.
Первые фильмы в стиле «современной драмы» были сняты на токийской студии «Никкацу» в 1910–х годах с участием актеров Симпа, включая и оннагата, драматургов и режиссеров — по существу, это были просто съемки репертуара Симпа. В подавляющем своем большинстве пьесы Симпа — любовные трагедии: самые распространенные сюжеты повествуют о красивых, но ненадежных нимаймэ и их возлюбленных, страдающих из-за слабостей своих избранников. Сюжеты Симпа: богатый молодой человек любит гейшу, но они не могут пожениться из-за ее профессии, простодушная деревенская девушка любит юношу, одержимого желанием перебраться в город, он бросает ее беременной, но, потерпев неудачу в городе, возвращается домой.
Значительные изменения произошли в 1920–х годах, когда актрисы-женщины вытеснили оннагата. Этот отход от традиции произошел в «современной драме» потому, что в отличие от «исторической драмы», где доминировали татэяку, любовные сцены заняли в ней центральное место и, несмотря на искусный грим создателей женских образов, в крупных планах их «адамовы яблоки» выглядели гротескно.
Первыми заметили это несоответствие молодые интеллектуалы, завсегдатаи кинотеатров, где демонстрировались иностранные фильмы. В те дни строгих сексуальных запретов кинотеатры, показывавшие зарубежные картины, были единственным местом, где молодые люди могли видеть лица прекрасных женщин, «настоящих» женщин, необычайно привлекательных. Когда многие из этих интеллектуалов сами начали снимать фильмы в 1920–х годах, они не только отказались от примитивной манеры простой съемки театральных постановок от начала до конца, использовав более органичный для кино метод последовательно сменяющих друг друга кадров, но и полностью отказались от оннагата.
Несмотря на устойчивость традиции, полный переход к актрисам-женщинам произошел за короткий период в несколько лет. После успеха в «современной драме» актрисы стали исполнять роли и в «исторической драме». Оннагата появились в Кабуки в момент его возникновения в XVII веке как результат правительственного запрета на присутствие актрис, поскольку последние были одновременно и проститутками. Как бы то ни было, эта порочная практика вскоре была возведена в принцип чрезвычайно стилизованной и изощренной актерской игры. Считалось, что оннагата даже более привлекательны, чем настоящие женщины, так как в своей игре они подчеркивают те черты, которые представляются мужчинам наиболее характерными признаками женственности: мягкость, хрупкость, застенчивость, кокетство. И все же игра оннагата отражала уходящие представления, и, поскольку диапазон такой игры был ограничен немногими образами утрированных женских типажей, исчезновение оннагата предоставило японскому кино возможность развиваться в направлении реализма — актрисы могли лучше воплотить проблемы современной женщины. Это позволило некоторым режиссерам создать новые типы героинь, что в свою очередь способствовало появлению новых черт в образе нимаймэ.
Одной из первых женщин в кино была Кумэко Урабэ — в то время еще непрофессиональная актриса, она снялась в картине Минору Мураты «Жена Сэйсаку» («Сэйсаку-но цума», 1924), первом фильме, который ознаменовал появление типа сильной героини.
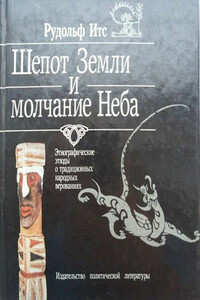
Автор книги, историк и писатель, известный читателям по работам «Века и поколения» (М., 1976), «К людям ради людей» (Л., 1987), «Женский лик Земли» (Л., 1988) и др., затрагивает широкий круг проблем, связанных с архаическими верованиями и обрядами — с первобытным анимизмом, с верой в тотемы и фетиши, с первобытной магией, с деятельностью жрецов и шаманов и др.Книга написана ярко и увлекательно, рассчитана прежде всего на молодежь, на всех, кто интересуется предысторией ныне существующих религий.

Данное интересное обсуждение развивается экстатически. Начав с проблемы кризиса славистики, дискуссия плавно спланировала на обсуждение академического дискурса в гуманитарном знании, затем перебросилась к сюжету о Судьбах России и окончилась темой почтения к предкам (этакий неожиданный китайский конец, видимо, — провидческое будущее русского вопроса). Кажется, что связанность замещена пафосом, особенно явным в репликах А. Иванова. Однако, в развитии обсуждения есть своя собственная экстатическая когерентность, которую интересно выявить.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

...безымянных людей, которым обстоятельства не дали проявить себя иначе, как в узком, сугубо приватном кругу. А это уже делает глубинной темой стихотворения — ... человеческое достоинство как тайну.
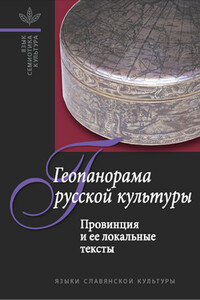
Книга «Геопанорама русской культуры» задумана как продолжение вышедшего год назад сборника «Евразийское пространство: Звук, слово, образ» (М.: Языки славянской культуры, 2003), на этот раз со смещением интереса в сторону изучения русского провинциального пространства, также рассматриваемого sub specie реалий и sub specie семиотики. Составителей и авторов предлагаемого сборника – лингвистов и литературоведов, фольклористов и культурологов – объединяет филологический (в широком смысле) подход, при котором главным объектом исследования становятся тексты – тексты, в которых описывается образ и выражается история, культура и мифология места, в данном случае – той или иной земли – «провинции».