Кентавр vs Сатир - [36]
Ты вдруг оказываешься кругом виноват за то, что не отвечаешь взаимностью, в твоих добродушных и легкомысленных подарках из дней оных обнаруживают зловещие смыслы, твоим близким людям досаждают подозрительностью и ревностью.
Есть что-то омерзительно эгоистическое в верной и безответной любви. Можно ровным счетом ничегошеньки не делать и, поплёвывая в потолок, плакаться, что ты никому не нужен. И даже собирать на этом эмоциональные дивиденды друзей.
Всё это наводит на мысль, что нет никакой горячей и сильной любви, а есть какое-то клиническое самовнушение или отклонение в развитии, потому что…
Потому что когда любят по-настоящему — забираются в окна, поют серенады, переходят границы по тонкому весеннему льду, дарят цветы и котов, наборы для выжигания и смешные трусы, отдают последнюю рубашку — и берут у тебя, не спрашивая, всё, в чём нуждаются. Зовут поехать автостопом на Байкал или озеро Чад. Смеются, смешат и поднимают настроение, но никак не наоборот. Я хорошо проинформирован.
«Полюбите нас чёрненькими?» Спасибо, дорогие, научен. Копнешь человека, а белого в нём и не было отродясь.
Оно почти всегда бывает задним числом, если это не опьянение спортом, хорошей погодой, алкоголем, кофе, эротикой. Если я и был однажды (или многократно) счастлив, то упустил минуту, чтобы отзеркалить это чувство в себе и произнести фаустовское «ну задержись». Подобный строй мыслей всегда приносит с собой мелодию «Почти элегии» — моего любимого сочинения на эту тему. Ещё не музыка, но уже не шум — единственно верное обозначение интервала, на котором вдруг формализуются все былые несчастья.
Вчера я лежал на правом боку, головой на плече сильного мужчины, прижавшись спиной к его рельефной груди и животу, обнимая при этом второго мужчину, — с застывшей на лице недоумённой и неловкой улыбкой, отчего хотелось снова и снова проводить по этому лицу рукой, трогать пальцами податливые губы. И я уже подумал, что это и есть счастье. Но, разумеется, это было просто опьянение, которое быстро прошло, когда мы встали. Один из мужчин бегал и искал потерявшийся носок (который он называл, не зная правильного слова, strumpf, чулок, ещё и с турецким акцентом). Все включились в поиски, двигали кровать и перетряхивали сваленную в кучу на стуле одежду. Как-то суетливо и немужественно — пародия на счастье; максимум, несостоявшееся счастье, скетч о сибаритстве.
А носок был в штанине джинсов, которые турок уже успел на себя натянуть. Парень торопился, ему нужно было в ночную смену на автозаправку.
Затянувшийся ужин за ноутбуком в одном из кафе Альтоны и экзистенциальный разговор с Ником о кризисе немецкого театра. И о том, почему после нескольких лет в Германии у меня происходит маленькая контрреформация: вытеснение аборигенов и приобретение новых русских/русскоязычных друзей. «Я знаком с массой интеллигентных людей, которые могут говорить о русской литературе, влиянии буддизма на творчество Гессе, новой парадигме сценического искусства и т. п. Но я не знаю ни одного человека, с которым можно было бы поговорить об этом увлечённо, страстно — leidenschaftlich — поспорить о какой-нибудь мелочи, скатиться в стиходекламацию, подраться и побрататься. Так же и современная литература, равно режиссура, в Германии — всё делается так, как будто за этим нет ничего трансцендентного. Есть искусные ходы, но это ещё не искусство. Вот в новой интерпретации „Войцека“ — которая в жестяном ящике, залитом кровью, — если герои передвигаются по периметру треугольника, то это считается невероятно креативным: ведь режиссер намекает не на хухры-мухры, а на святую троицу (или, спорят газеты, на последовательность полосок германского флага). И такая пустота за всеми этими „войцеками“ и бегущей Лолой, снятой как нехитрое уравнение и вытянутой за уши только игрой актеров; Франка Потенте играет так, будто в её роли есть что-то иррациональное и метафизическое, хотя и там, конечно, зияющая пустота. У посредственного драматурга на сцене выстреливает каждое ружье. А гениальный предоставляет ими распорядиться самому зрителю. Возможно, после представления, но зона поражения оказывается куда обширнее. В этой стране почему-то нет гениальных писателей, актеров, режиссёров, певцов. Есть масса умелых гюнтеров грассов, которые то ли таковы от рождения, то ли всю жизнь катятся на ручном тормозе».
(Этот пассаж примерно передаёт содержание моего монолога.) Следует неожиданная реакция.
— Ich habe dich lieb, — подскакивает Ник, снова садится за столик и стучит рукой по столу так, что нам вопросительно кивает официантка. — Именно этого нам не хватает в жизни и искусстве. Leidenschaft… Leidenschaft.
В прошлом году накануне праздников меня, видимо, в последний раз по-настоящему хтонически занесло — когда у меня появился и вскоре со скандалом исчез бразильский сирота. Да, 2005-й был годом трехсот спартанцев, но в 2006-м я неизменно стремился к руслу и очагу. Возможно, движение души по этому вектору — не более чем заблуждение: память о моей идеальной семье мифологизировалась (и, кстати, поначалу ещё острее захотелось всё вернуть). Сначала я принял за любовь влюблённость в меня, — наверное, со многими такое происходит, — восторг обретения и доверие, а по прошествии времени — понимание, что нет горчичного зерна, одна горечь. И неминуемое озлобление влюблённого. Через пару месяцев я повторил этот паттерн наоборот, сам втюрившись и излив на своего избранника тонны нежности. От которых он сбежал, что снова было горько. Правда, я учёл прежний опыт, свой и своих жертв. Мы хорошо дружим, держимся за руки и делимся друг с другом всем, чем могут делиться между собой настоящие мужчины. В третий раз я принял за любовь свои собственные заботу и нежность, которые кому-то обязательно хотелось подарить. Кажется, сейчас у меня четвёртый. «Кажется» — потому что я переживаю и впадаю в сентиментальность, но не вижу места подвигу. Сейчас я не сорвусь из отпуска/командировки/гастролей, чтобы почивать лишнюю ночь в объятьях голубицы. Я много огрызаюсь, потому что моё превосходство постоянно ставится под сомнение. Вчера я сказал о ком-то из общих знакомых, что нет у этого человека никакого мира и мировоззрения, а есть только тёмная загаженная комнатка. «Как ты можешь так отзываться о людях?! Посмотри на себя, это у тебя-то есть собственный мир?» («Мир» или «Вэльт», как мы знаем, слово многогранное — «мир кафеля», «детский мир» и т. д. Распространённость этого оборота связана с глобализацией.) Именно эти перебранки и создают пока напряжение между клеммами. Наверное, это тоже секс, а не любовь. Если и я нахожусь в тёмной комнатке, то утешаю себя, что всё подстроено и всё будет хорошо:

Есть люди, которые расстаются с детством навсегда: однажды вдруг становятся серьезными-важными, перестают верить в чудеса и сказки. А есть такие, как Тимоте де Фомбель: они умеют возвращаться из обыденности в Нарнию, Швамбранию и Нетландию собственного детства. Первых и вторых объединяет одно: ни те, ни другие не могут вспомнить, когда они свою личную волшебную страну покинули. Новая автобиографическая книга французского писателя насыщена образами, мелодиями и запахами – да-да, запахами: загородного домика, летнего сада, старины – их все почти физически ощущаешь при чтении.
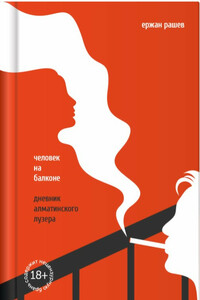
«Человек на балконе» — первая книга казахстанского блогера Ержана Рашева. В ней он рассказывает о своем возвращении на родину после учебы и работы за границей, о безрассудной молодости, о встрече с супругой Джулианой, которой и посвящена книга. Каждый воспримет ее по-разному — кто-то узнает в герое Ержана Рашева себя, кто-то откроет другой Алматы и его жителей. Но главное, что эта книга — о нас, о нашей жизни, об ошибках, которые совершает каждый и о том, как не относиться к ним слишком серьезно.

Петер Хениш (р. 1943) — австрийский писатель, историк и психолог, один из создателей литературного журнала «Веспеннест» (1969). С 1975 г. основатель, певец и автор текстов нескольких музыкальных групп. Автор полутора десятков книг, на русском языке издается впервые.Роман «Маленькая фигурка моего отца» (1975), в основе которого подлинная история отца писателя, знаменитого фоторепортера Третьего рейха, — книга о том, что мы выбираем и чего не можем выбирать, об искусстве и ремесле, о судьбе художника и маленького человека в водовороте истории XX века.

Восточная Анатолия. Место, где свято чтут традиции предков. Здесь произошло страшное – над Мерьем было совершено насилие. И что еще ужаснее – по местным законам чести девушка должна совершить самоубийство, чтобы смыть позор с семьи. Ей всего пятнадцать лет, и она хочет жить. «Бог рождает женщинами только тех, кого хочет покарать», – думает Мерьем. Ее дядя поручает своему сыну Джемалю отвезти Мерьем подальше от дома, в Стамбул, и там убить. В этой истории каждый герой столкнется с мучительным выбором: следовать традициям или здравому смыслу, покориться судьбе или до конца бороться за свое счастье.

Взглянуть на жизнь человека «нечеловеческими» глазами… Узнать, что такое «человек», и действительно ли человеческий социум идет в нужном направлении… Думаете трудно? Нет! Ведь наша жизнь — игра! Игра с юмором, иронией и безграничным интересом ко всему новому!
