Казусы «христианизации» немецкой поэтической лексики в русских переводах - [2]
В 1779 г. молодой Гёте написал стихотворение «Grenzen der Menschheit» («Пределы человечества»), трактующее тему смирения человека перед началом божественным в отнюдь не смиренных интонациях Sturm und Drang'a, причем божественное предстает как космически-стихийное; соответственно употребляются выражения намеренно политеистические: «Denn mit Gottern / soil sich nicht messen / irgendein Mensch…»; «…Was unterscheidet / Gotter und Menschen…» [3]. И если на фоне этих «богов» выделяется некий «прадревний святой Отец», наподобие Зевса, в обличий Громовержца он не получает никакой однозначной идентификации с Богом Библии. Вот начало стихотворения:
В таком же роде стихотворение Гёте идет далее; если его лирический герой «смиряется» перед божественным началом, то постольку, поскольку он приемлет пантеистическое растворение своего «я» в мистерии космоса. И вот заключение:
Перевод Дмитриева возник всего через 16 лет, в 1795 г., принадлежа к наиболее ранним актам усвоения Гёте в России. Такая культурная инициатива была достойна «европеизма» карамзинистов. Однако уже гётевское заглавие оказалось для переводчика уж слишком неконвенциональиым: оно было заменено на традиционно одическое и набожное «Размышление по случаю грома». Вот как выглядит его начало:
Продолжение вполне соответствует такому зачину, в котором сразу же вводятся два специфически библейских именования Бога: «Ветхий деньми» (из 7-й главы Книги Даниила, ст. 9-22) и «Всесильный» (соответствие греч. Посуто5ша|ю<; и евр. Шаддай).
Нужно ли специально констатировать, что никакие «боги» после этого не упоминаются? Если от «богов» Гёте исходят «волны» некоего «вечного потока» космических энергий, то Бог у Дмитриева, как и приличествует Творцу, отделен от твари онтологической дистанцией, и притом едва ли без мысли о том, как отступили морские волны в 14-й главе Книги Исхода:
Можно вспомнить из славянского текста псалма 113:3: «Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять», — и множество других подобных текстов. А под конец возникает еще одно именование Бога, на сей раз характерное для православного богослужебного, богословского и молитвенного обихода, — «Безначальный»:
Мы видим, как утеряно все загадочное, стихийное; вместо натурфилософской мистики Гёте перед нами самое обычное благочестивое назидание.
Можно, разумеется, возложить вину за это на переводческую непонятливость Дмитриева (в защиту коего надо сказать, что в 1795 г. современникам, тем более в России, было куда менее ясно, что на самом деле думает г-н Гёте, чем последующим поколениям). Можно подумать и о том, что адекватный перевод стихотворения не замедлил бы породить в России той поры цензурные трудности. И всё же дело не только в этом. В первых же строках стихийный Бог немецкого поэта именуется «Der uralte Heilige Vater»; как, собственно, перевести по-русски уже самый первый эпитет, не вызывающий сколько-нибудь конкретных библейских или богословских ассоциаций, однако и не «профаниый» по своему тону? Мы употребили выше для подстрочного перевода словечко «прадревний», — но тогда такого словечка не было, вообще не было определенных языковых навыков, в XX веке оживленных у нас практикой переводов поэзии Гёльдерлина, а затем и философской прозы Хайдеггера. Единственным оборотом, с убедительной поэтической силой выражающим идею священной изначальности Божества, оставался все тот же славянизм (и библеизм!) «Ветхий деньми». У переводчика, в отличие от немецкого автора, просто не было в запасе лексических альтернатив ему. А приняв это выражение, он поставил себя в необходимость последовательно переводить лексику стихотворения с языка деизма на язык теизма. Дмитриев, питомец Просвещения в его умеренном варианте, не был, насколько мы его знаем, ни особенно набожным автором, ни несносным ханжой. Перед нами случай, когда логика языка диктует законы.
Именно это мы назвали в заглавии нашей статьи «христианизацией» поэтической лексики, сознательно прибегая к кавычкам постольку, поскольку желательно было отметить языковую, не мировоззренческую природу феномена. Серьезная христианская тенденция, христианизация без всяких кавычек переводимого текста осуществляется, скажем, у Жуковского в его переводах из Шиллера совсем иными методами, обычно обходясь без внешних изменений в словаре. В этой связи заметим, что именно в сугубо индивидуальном языке русского поэта происходит максимальное для России приближение к тому немецкому феномену, о котором мы говорили; но это была неповторимая личная манера, не язык целой культуры. В чем стратегия Жуковского? Примером может служить «Жалоба Цереры». Оригинал был создан Шиллером в 1796 г.; Жуковский перевел стихотворение в 1831 г. Перевод очень точен в ритмическом и вербальном отношении. Тем более интересно, какими минимальными средствами Жуковский сделал из исторически-объективирующего стихотворения — глубоко субъективное, из языческого — христианское. Контекст, в котором оригинал и перевод трактуют тему, глубоко различен. Немецкий оригинал принадлежит тому самому Шиллеру, который написал стихотворение «Боги Греции», оплакивавшее гибель античной политеистической Naturreligion, в результате чего нам досталась «обезбоженная природа» («Die entgotterte Natur»)
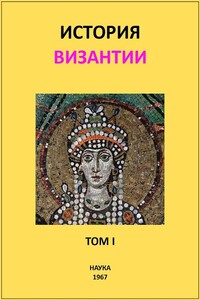
Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.
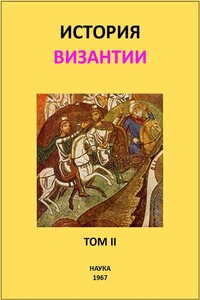
Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.

«Литературой как таковой» швейцарский славист Ж.-Ф. Жаккар называет ту, которая ведет увлекательную и тонкую игру с читателем, самой собой и иными литературными явлениями. Эта литература говорит прежде всего о себе. Авторефлексия и автономность художественного мира — та энергия сопротивления, благодаря которой русской литературе удалось сохранить «свободное слово» в самые разные эпохи отечественной истории. С этой точки зрения в книге рассматриваются произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, В. В. Набокова, Д. И. Хармса, Н. Р. Эрдмана, М. А. Булгакова, А. А. Ахматовой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вячеслав Пьецух — писатель неторопливый: он никогда не отправится в погоню за сверхпопулярностью, предпочитает жанр повести, рассказа, эссе. У нашего современника свои вопросы к русским классикам. Можно подивиться новому прочтению Гоголя. Тут много парадоксального. А все парадоксы автор отыскал в привычках, привязанностях, эпатажных поступках великого пересмешника. Весь цикл «Биографии» может шокировать любителя хрестоматийного чтения.«Московский комсомолец», 8 апреля 2002г.Книга известного писателя Вячеслава Пьецуха впервые собрала воедино создававшиеся им на протяжении многих лет очень личностные и зачастую эпатажные эссе о писателях-классиках: от Пушкина до Шукшина.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.