Казанова - [4]
На лестнице он немного постоял, колеблясь. Может, лучше вернуться, может быть, каждый шаг, каждая поскрипывающая под ногами ступенька приближает его к очередной опасности, затаившейся там, внизу. Зачем искушать судьбу — не благоразумнее ли спрятаться, подождать до утра?
В столовую Джакомо вошел с неприятным чувством досады: видать, стареет, начинает бояться того, что еще недавно вызывало лишь дрожь возбуждения, — будь то неожиданность, приключение или даже опасность.
За одним из столов он увидел своего пожилого попутчика, но, хотя тот приветливо ему помахал, подзывая к себе, не принял приглашения. Рядом двое бородатых иностранцев беседовали по-немецки — тоже, наверно, купцы, кого еще занесет в такую глушь. Младший улыбнулся, указал место рядом с собой:
— Bitte[2].
О нет, никаких купцов. Вежливо поклонившись, сел за пустой стол у окна, заказал мясо и водку — особого выбора, впрочем, и не было. Местное пиво он пить не рисковал, а к водке успел привыкнуть. Можно снести даже ее мерзкий запах, чтобы насладиться вспыхивающим в теле огнем.
Тогда давно — как давно? — далеко отсюда — далеко ли? — первый глоток обжег язык, второй, поглубже, распалил огонь под ребрами, третий разбудил скованные холодом пальцы. Крепко обхватив кружку, он выпил все до дна. Зазвонили колокола, закричали вспугнутые набатом птицы. Двенадцать. Мир вернулся во всей своей унылой реальности: щербатая кружка, заскорузлые от грязи пальцы; потеки на стенах, в углу куча полуистлевшей соломы, застланной обрывком занавески, в которую он закутался, убегая; вот каков теперь был его мир. Сколько он тут находится? Который уже день слышит колокольный звон и пронзительный крик воронья? Не помнит, не знает. Этот кудлатый монах мог бы, наверно, сказать, но молчит как рыба. Неделю? Месяц? От холода и голода сознание помутилось, пропало чувство времени. Его, почти голого, втолкнули в какую-то клетку и заперли дверь на засов. Вот все, что он помнил. Потом был хаос — мыслей и незнакомых ощущений. Он заново познал каждый уголок своего тела, каждый участок кожи — пока сидел, скрючившись, спасаясь от морозного воздуха, сползающего ночью со стен. Никто к нему не заглядывал, если не считать угрюмого монаха, приносившего — один раз на рассвете, второй раз в сумерках, в точном согласии со строгими правилами загадочного и изнурительного поста, — кусок хлеба и кружку воды. О нем забыли, в минуты просветления со страхом думал Казанова, продержат в этой вонючей конуре до самой смерти. За что? Из-за какой-то безмозглой шлюхи. У него были сотни куда лучше, чем она. Ради некоторых даже стоило немного помучиться — не так, конечно. А уж эта…
Он настолько ослабел, что не в силах был даже подползти к окну. И вдруг — кружка водки. Варварство, конечно, но и обещание перемен. Теперь его наконец выпустят. Выпустят и извинятся. Выплатят компенсацию. Никакие деньги не помогут забыть пережитое, поэтому скромничать он не станет. Да и царица славится своей щедростью, пусть только узнает правду — а она узнает, уж об этом он позаботится, успешнее, чем в первый раз.
Но если… Кружка с грохотом покатилась по полу. Если все совсем не так, как он думает. Если… Кажется, приговоренным к смерти дают напоследок выпить водки. Леденящий душу страх заставил Джакомо приподняться, схватить монаха за широкий рукав рясы; под рясой было поддето что-то теплое, какие-то тряпки, и почему-то это привело его в ярость.
Перед ним был один из тех, кто уготовил ему такую жалкую участь: негодяй, мучитель, палач. Встав на колени и выпрямившись, Казанова с усилием прохрипел монаху прямо в лицо:
— Нет в твоем сердце Бога! Почему ты молчишь? Что вы собираетесь со мной сделать?
Монах отечески положил руку ему на голову и открыл рот, из которого вырвался ужасающий клекот. На месте языка была темная, будто поросшая плесенью култышка.
Бородатый корчмарь наклонился к нему и пробормотал что-то на ломаном французском. Такая фамильярность его возмутила.
— Чего тебе?
Ответ нетрудно было угадать, поглядев на недвусмысленную ухмылку старика.
— Девочки, вельможный пан. Не желаете? Это лучше, чем водка.
— У вас тут есть женщины?
Ухмылка превратилась в улыбку, а фамильярность — в заботливое участие.
— Первый сорт. Такие, что еще никогда. В первый раз.
Теперь уж и Казанова улыбнулся. Этот рефрен можно услышать в каждом борделе, в любом уголке Европы. Итак, мы в Европе. По совести говоря, ему никто не был нужен — ни девственница, ни шлюха, — но какой-то безрассудный страх помешал отказаться. Может, не стоит сегодня ночью быть одному. Пускай хоть толстая деваха с красными ногами и огрубевшими от работы в поле руками залезет в постель. Лучше это, чем холод одиночества.
— Хорошо. Пришли какую-нибудь. Попозже.
Он проговорил это торопливо: его внимание уже было занято другим. За соседним столом, где сидели мужчины, одетые по местной моде — Джакомо еще не научился различать, по-мужицки или по-барски, — на которых он лишь изредка мельком посматривал, вдруг что-то странным образом изменилось. Пока он ел, пил и с тупым отвращением гадал, что его ждет в пути, ничего интересного там не происходило: тарелки передавались из рук в руки, сотрапезники громко переговаривались — как за любым другим столиком. Но внезапно вся посуда перекочевала в один угол, а мужчины замерли, неотрывно, словно в ожидании чуда, глядя на неоструганные доски столешницы. Лишь через минуту Казанова понял, что уставились они не на стол, а на вытянутые над ним и словно бы что-то обхватывающие руки безусого юнца, совсем еще мальчика. Поражало его лицо — напряженное, даже страдальческое, с каплями пота на висках. Он тяжело дышал, будто боролся с невидимым противником.

Рассказ о первой организованной массовой рабочей стачке в 1885 году а городе Орехово-Зуеве под руководством рабочих Петра Моисеенко и Василия Волкова. Для младшего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
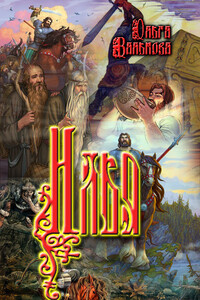
Роман по мотивам русских былин Киевского цикла. Прошло уже более ста лет с тех пор, как Владимир I крестил Русь. Но сто лет — очень маленький срок для жизни народа. Отторгнутое язычество еще живо — и мстит. Илья Муромец, наделенный и силой свыше, от ангелов Господних, и древней силой от богатыря Святогора, стоит на границе двух миров.
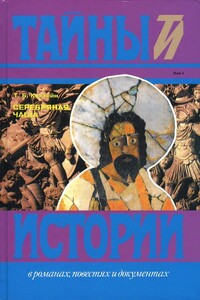
Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.
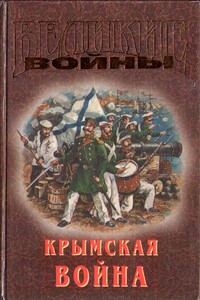
Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.
